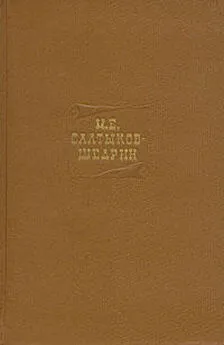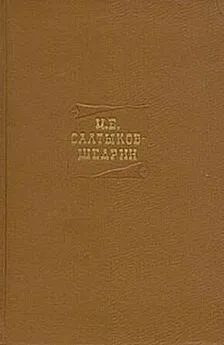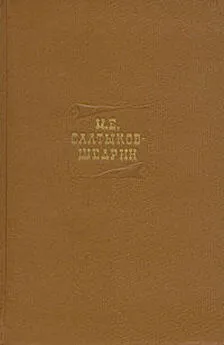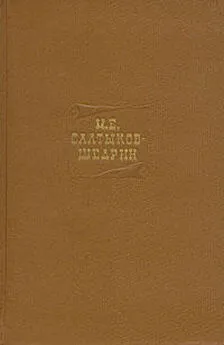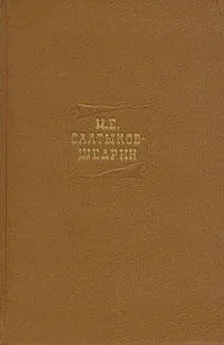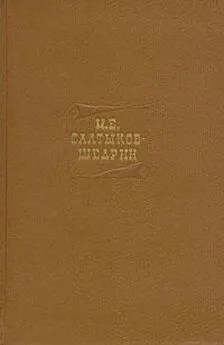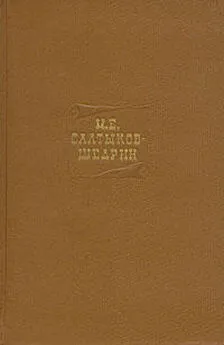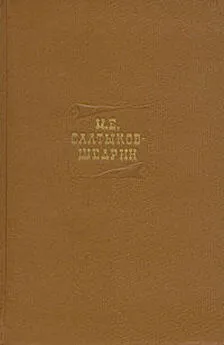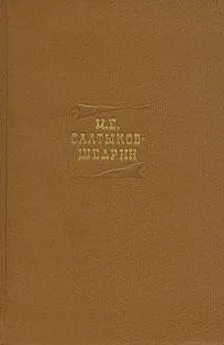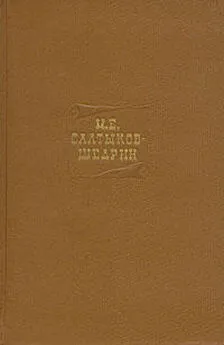Михаил Салтыков-Щедрин - Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
- Название:Том 5. Критика и публицистика 1856-1864
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1966
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В пятый том настоящего издания входят критика и публицистика Салтыкова 1856–1864 годов, кроме отнесенных в следующий, шестой том «хроник» из цикла «Наша общественная жизнь», примыкающих к этому циклу статей «Современные призраки», «Как кому угодно», «В деревне», а также материалов журнальной полемики Салтыкова с «Русским словом» и «Эпохой».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 5. Критика и публицистика 1856-1864 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я лиру томно строю
Петь скорбь, объявшу дух;
Приди грустить со мною!
Луна, печальных друг. *
Так говорил поэт-художник и совершенно основательно изображался на картинках с лирой в руках и с обращенными к небу очами. «Скорбь», которую он намеревался воспеть, вовсе не была скорбью действительною, хватающею за живое; это была та тихая, сладкая и неопределенная скорбь, потребность которой в особенности сильно чувствуется досужеством. Это не скорбь, а приятное чувство томного расслабления; человек доволен и счастлив; он хорошо обставлен, не чувствует над собою тяготения страшной материальной нужды; но в то же время смутно ощущает, что ему чего-то недостает. Это что-то недостающее, это нечто, составляющее необходимую подробность в общей картине жизни, и есть та самая «грусть», во свидетельницы которой приглашается луна и которая, в виде утратившего свою едкость дыма, доходит до обоняния досужего человека (благо, щели не окончательно наглухо законопачены!) из тех низменных пространств, где она зарождается, со всеми признаками действительного, а не увеселительного горя, где она зреет и обсеменяет почву своими проклятыми семенами. Коли хотите, это даже и не грусть совсем, а просто увеселительное представление, которому, для разнообразия, дается меланхолический характер.
Тем не менее мы были бы неправы, не отдавши поэтам-художникам должной справедливости. Как ни лимфатична была их «грусть», как ни незначительна была ее доля в той общей массе всякого рода воинственно-увеселительно-полового клубницизма * , составлявшего главное содержание их песнопений, все-таки эта «грусть» о чем-то напоминала, все-таки она была отблеском (хотя и очень слабым) той действительной грусти, которая росла и растет, невидимая даже сквозь щели, в тех темных пространствах, о которых сказано выше. Без этого отблеска, без этих напоминаний, досужество окончательно погрузло бы в грубом служении Астарте * . А из этого прямо следует вывести то заключение, что поэты-художники, несмотря на свое умственное малокровие, все-таки имели с так называемым «темным царством» органическую связь, внутренние признаки которой не изглаживались даже тогда, когда наружные исчезали окончательно.
И в самом деле, история искусств показывает нам, что поэты-художники, по большей части, были люди второго сорта и далеко не досужие. Досужие люди, предававшиеся искусствам (потому ли, что они выродились, или потому, что в их однообразно безмятежной жизни недоставало тех переливов света и тени, которые составляют одно из существеннейших условий искусства), были в состоянии производить только ерунду и потому, для оживления своего досужества, вынуждались обращаться к людям «темного царства». Здесь тоже немаловажная заслуга со стороны последних, хотя заслуга и бессознательная. Они невольно способствовали постепенному освобождению «темного царства» из тенет, которые его опутывали, невольно выводили за собой из тьмы более или менее значительные группы узников, которые таким образом делались причастниками света. И хотя этот свет был смурый, хотя люди, сделавшиеся участниками его, сами неминуемо заражались умственным малокровием, тем не менее это все-таки был тот свет, к которому стремилось все живущее, и он-то делался общим достоянием.
Должно думать, что число этих новых участников, с течением времени, сделалось до того значительно, что оно подействовало выгодным образом и на духовное малокровие. Роли перевернулись; прежде досужество развращало пришельцев и подчиняло их условиям своего малокровия; с течением времени уже пришельцы стали развращать досужество и постепенно подкрашивать его лимфу. И не надобно совсем думать, что в этом процессе досужество играло какую-то страдальческую и вынужденную роль — совсем напротив.
Досужество всегда и везде действовало исключительно в видах собственного своего увеселения. Оно всегда и везде пользовалось слишком выгодною обстановкой, чтобы покоряться действию внешнего напора и выходить из своей замкнутости, вследствие какого бы то ни было насилия. Если оно выходило из этой замкнутости, то это было результатом скорее внутреннего, нежели внешнего насилия, актом естественного внутреннего сознания, что всякая замкнутость сама в себе носит семена смерти. Досужество растлевается, но растлевается, так сказать, добровольно, ибо растление это таится в нем самом, в том малокровии, на которое оно фаталистически осуждено, в том опасении смерти, которое преследует его с самой минуты его рождения. И вот оно ищет возобновиться и освежить себя притоком свежего, неспертого воздуха; со временем, быть может, этот свежий воздух сшибет его с ног; быть может, оно даже и предвидит этот конец, но предвидит или не предвидит, а идет к нему непринужденно и даже, так сказать, веселыми ногами.
Повторяем: в этом случае поэты-художники оказывают помощь очень действительную. В их чистеньких манерцах, в их клубничных помыслах есть нечто такое, что по плечу досужеству; они тем успешнее вносят заразу в это последнее, что оно не пугается их и даже охотно предоставляет им право увеселять себя. Но все-таки никак не следует забывать, что это заслуга невольная и что все ее достоинство заключается не в ней самой, а в тех неизбежных последствиях, которые она за собой влечет.
По мере вторжения в сферу досужества новых сил, прежние отношения искусства к жизни делаются всё более и более невозможными. Жизнь заявляет претензию стать исключительным предметом для искусства, и притом не праздничными безмятежно-идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, режущими глаза сторонами. Мало того: она претендует, что в этих-то последних сторонах и заключается самая «суть» человеческой поэзии, что игривые ландшафты и надзвездные пространства, хотя и могут еще, по нужде, оставаться более или менее приятными аксессуарами, но действительного, истинно человеческого содержания искусству ни под каким видом дать не могут. Искусство, следуя этой теории, принимает характер преимущественно человеческий, или, лучше сказать, общественный (так как человек, изолированный от общества, немыслим), и чем ближе вглядывается в жизнь, чем глубже захватывает вопросы, ею выдвигаемые, тем достойнее носит свое имя.
Такой крутой переворот в понятиях о значении искусства необходимо требует новых деятелей, которые, конечно, и являются; но он до того жизнен и силен, что охватывает собой даже и тех старых поэтов-художников, которые до тех пор пели исключительно о счастье птиц. Всем хочется приобщиться к движению, ибо, благодаря своей жизненности, оно всех затрогивает за живое, всех неслышно в себя втягивает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: