Михаил Салтыков-Щедрин - Том 7. Произведения 1863-1871
- Название:Том 7. Произведения 1863-1871
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 7. Произведения 1863-1871 краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В настоящий том входят художественно-публицистические произведения Салтыкова, создававшиеся в основном в конце 60-х — самом начале 70-х годов: сборник «Признаки времени», цикл «Письма о провинции», незавершенные циклы «Для детей» и «Итоги», сатира «Похвала легкомыслию», набросок <«Кто не едал с слезами хлеба…»>.
Большинство этих произведений было напечатано или предназначалось для напечатания в журнале «Отечественные записки», перешедшем с 1868 г. под редакцию Некрасова.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Произведения 1863-1871 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем не менее невозможно ни на минуту усомниться, что русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего хуже — беден сознанием этой бедности.
Для того чтоб понять, до какой степени настоятельны бывают некоторые нужды, необходимо или пройти сквозь них, или, по крайней мере, видеть их лицом к лицу. Бывают очень запутанные нравственные положения, но до постижения их можно дойти и без указаний личного опыта, с помощью одних логических выводов, по той простой причине, что трудно назвать такую нравственную смуту, зерно которой, влиянием времени, не заносилось бы во внутреннее святилище каждого современного человека. Совсем другое дело — смута материальная. Цивилизованному меньшинству она представляется в виде такого исключительного и неразрешимого положения, которое во всем своем объеме может существовать только в сильно настроенном воображении художника.
Мудрено представить себе то убожество, в котором живут массы и которому они, по-видимому, вполне подчинились. Негодование, которое проникает человека при виде явлений легковерия, одичалости и насильства, непрерывно сочащихся из сердца народных масс, невольно утихает, когда собственными руками прикасаешься к той проказе, которою они заражены, и собственными легкими вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою они дышат. Самое ничтожное обстоятельство, мимо которого мы, люди меньшинства, проходим не только не задумываясь, но просто без всякой мысли, влияет на жизнь бедного труженика до того решительно, что сразу парализирует в нем всякую энергию. Интересы, по-видимому, грошовые, будучи взяты в своей совокупности, составляют такую сумму, под бременем которой совершенно неприметно погибает член «несуществующего» у нас пролетариата * . Да̀, «пролетариата» нет, но загляните в наши деревни, даже подстоличные, и вы увидите сплошные массы людей, для которых, например, вопрос о лишней полукопейке на фунт соли составляет предмет мучительнейших дум и для которых даже не существует вовсе вопроса о материальных удобствах; вы найдете тысячи бесприютных бобылок, которых весь годовой бюджет заключается в пятнадцати — двадцати рублях, с трудом выработываемых мотанием бумаги. А пролетариата нет. Правда, что массы предполагаются грубыми и бесчувственными, но тут, однако, возникает вопрос, что̀ чему предшествует: бесчувственность ли обязательному отсутствию на столе соли или наоборот? Нам, людям, живущим особняком от масс, даже трудно себе представить, до какой наглости может доходить это вечное притязание желудка, из-под гнета которого ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но тем не менее оно не выдумка, а один из тех бесспорных и всем видимых фактов, для подтверждения которых не требуется даже ссылаться на статистические исследования.
Положение человека, фаталистически осужденного не думать ни о чем ином, как о средствах не умереть с голода, не замерзнуть, не утонуть в болоте и вообще «не пропасть как собаке», есть одно из тех противоестественных положений, которые настоятельно приковывают к себе внимание мыслящего человека. Это те самые первоначальные нужды, при неудовлетворении которых немыслимо развитие никаких иных нужд. А в развитии этих «иных» нужд вся и сила. Если человек обеспечен, по малой мере, от необходимости исключительно останавливать свое внимание на средствах примириться с желудком, он непременно пойдет далее, он прикует свою мысль к другим предметам и перенесет свои требования в высшую сферу. Сегодня он думает только о хлебе материальном, завтра он уже будет думать о хлебе духовном; но, покуда он не имеет положительных средств обеспечить свободу желудка, он, конечно, не предпримет никаких мер, чтобы обеспечить свободу мысли. Следовательно, несправедливо и едва ли даже возможно ожидать, чтобы бедность духовная была побеждена прежде, нежели будет побеждена бедность материальная.
Конечно, такое предприятие заключает в себе трудности почти непреоборимые. Человек массы мало того что страдает: он, сверх того, имеет самое слабое сознание этого страдания; он смотрит на него как на прирожденный грех, с которым не остается ничего другого делать, как только нести его, насколько хватит сил. Скажите ему, что обязанность не наедаться досыта, обязанность зябнуть, утопать в болотах и не в меру напрягать мышцы — вовсе не есть необходимый удел, что тут нет даже никакого предопределения, — и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится на его лице при таком разъяснении, будет чувство недоумения. Не ясно ли, что, покуда такое недоумение существует, никакие намерения относительно изменения характера его судьбы не могут быть действительны?
— Куда я теперь денусь! куда я денусь! — голосила на днях, при наших глазах, некоторая баба, бегом устремляясь по дороге и размахивая руками.
Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничным колесом, и она бежала на мельницу посмотреть, как его раздавило. За нею следом бежала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный был хозяин зажиточный, имел изрядный дом и на миру был известен как человек ревнивый к общественному делу. По смерти его осталась вдова с маленькими детьми, и то относительное «благосостояние», в котором находилась эта семья, в одну минуту рушилось. Вдова платить подати не могла, и, следовательно, земля от семьи немедленно отбиралась (да она не имела и средств обработывать ее); мир, с своей стороны, несмотря на «раденье» покойника, смотрел на вдовьи слезы тупо.
— Да̀; добышник был, царство небесное! — молвил дядя Миняй. *
— К крестьянскому делу радельщик был! — подтвердил дядя Митяй. *
И пошли себе дяди Митяи по домам, а вдова осталась одна с своими слезами, приготовляясь назавтра же начать изучение той бедственной жизни, которая учит на двадцать рублей в год прокормить себя и детей, и в конце которой (вот подлинно сладкие-то плоды!) стоит для сына красная шапка * , для дочери — название деревенской сахарницы, для нее самой — бесконечное голодное мыкание по белу свету.
Может ли эта баба о чем-нибудь думать? Может ли она что-нибудь ощущать, кроме безотчетного, панического ужаса? Нет, она не может ни думать, ни ощущать. Она не имеет времени обсудить свое положение, размыслить о средствах выйти из него; она должна без оговорок принять его, как неизбежное, и прямо вступить в ту колею, которую уже до нее проторили подобные ей бобылки. Она не может даже вдоволь наплакаться над телом своего добышника, да и те немногие слезы, которые она прольет по этому случаю, будут слезы не бескорыстные, но отравленные мыслью: «На кого-то ты меня покинул? как-то я завтра хлеба добуду себе с детьми малыми?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
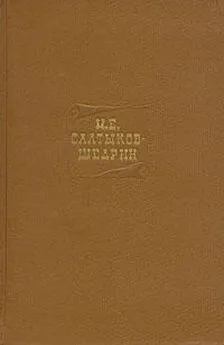

![Михаил Салтыков-Щедрин - Том четвертый. [Произведения]](/books/192879/mihail-saltykov.webp)







