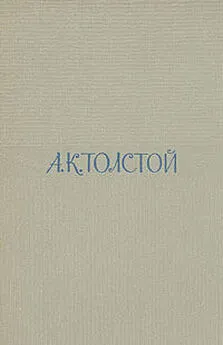Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855
- Название:Том 7. Художественная проза 1840-1855
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1981
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Некрасов - Том 7. Художественная проза 1840-1855 краткое содержание
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
В данной электронной редакции опущен раздел «Другие редакции и варианты».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Художественная проза 1840-1855 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хлыстов занимал квартиру, каких много в Петербурге и какие для холостяков очень удобны: две комнаты с кухней и прихожей. Квартирка его убрана была, как убирают в Петербурге люди средней руки и среднего состояния: красные диваны, вместо шерсти набитые мочалой, а дерево кресел хотя и красно, однако ж совсем не красное.
Хлыстов ждал гостей: вышла новая его поэма, и он решился задать пирушку, чтобы задобрить издателя некоей газеты… В утреннем голубом сюртуке с плюшевым воротником и шелковыми кистями, в бархатной феске с золотым ободочком и красной кисточкой, в желтых туфлях, с умыслом прорванных на большом пальце правой ноги, Владимир Иваныч медленно прохаживался по своему кабинету, и душа его тонула в блаженном созерцании самого себя и своей квартиры. «Если б, — думал он, — кто-нибудь вздумал написать из меня повесть, он, верно бы, описал прежде всего мой кабинет, и, надеюсь, тут ему довольно было бы работы…» При этом Хлыстов самодовольно взглянул на кучу разных безделушек, развешанных по стене, расставленных по сторонам, размещенных по этажеркам и подоконьям, сделал гримасу портретам, сказав: «Эх, вы!», и потом заглянул мимоходом в зеркало. «Описавши кабинет, он, верно, начал бы так: „Молодой хозяин кабинета…“» И тут Хлыстов не мог удержаться от улыбки, подумав, что повествователь уж никак бы не мог пропустить, что хозяин очень недурен собою. Эта мысль заставила его быстро подойти к зеркалу, и уже на этот раз он стоял перед ним довольно долго, потом начал шибко ходить, страшно отбрасывая ноги по сторонам и декламируя какие-то стихи своего сочинения. Потом он произнес: «Вот черт возьми!» — и задумался. Подумав с минуту, он вскочил и с необыкновенною живостью закричал: «Ванька, трубку!» — и опять сел… Прошла минута, ни Ваньки, ни трубки не было. Он побежал в кухню с сердитым лицом, разбудил Ваньку, крикнул, что он только спит и даром ест у него хлеб, погрозил высечь и, с гневом возвратившись в кабинет, сел и начал что-то насвистывать. Ванька подал ему трубку, которую набил из стоявшего тут же курительного снаряда.
В то время раздался звонок. Входит молодой человек невысокого роста, черноватый, в оливковой венгерке и в красном шарфе, — один из тех праздношатающихся молодых людей, которые попадаются во всех гостиницах Невского проспекта и всюду, где есть на что поглазеть. Сам он ничего не сочинял, но был друг со многими второстепенными сочинителями и актерами и с гордостью говорил, что решительно не пропускает ни одного спектакля в Александрийском театре. И он не лгал.
Он имел искусство, при довольно хорошем состоянии, быть всегда без денег. Получив их, он тотчас делал пирушку, сзывая всех актеров, сочинителей и другого рода «артистов», кутил с ними до той поры, пока в кошельке душа была. Зато все артисты говорили ему «монгдер» и на шумных пирушках экспромтом произносили в честь его стихи, которые он заучивал наизусть и хранил в памяти, как драгоценность. Он готов был пробыть два дни без еды (что не раз и случалось), только бы пройтись по Невскому в новом шарфе, заплатить бенефицианту тройную цену за кресло в первом ряду и проехаться в коляске мимо окон той, которой посвящались аплодисменты его терпких рук и вздохи страстного сердца. Замечательно, что страсть кататься именно в коляске, — потому что в карете не всякий его увидит, — осталась в нем господствующею и тогда, как все другие исчезли, подавленные, как ртуть в термометре во время мороза, постоянным безденежьем. Он навещал своих приятелей пешком, когда ему решительно нечего было ни заложить, ни продать, ни занять. Когда же появлялись деньги, он по два, по три, по четыре дни сряду разъезжал с утра до вечера по улицам, гордо посматривая вокруг себя, кланяясь знакомым и незнакомым, по нескольку раз объезжал всех своих приятелей, завозил их по домам, по кондитерским, по театрам, и в эти торжественные дни самодовольная улыбка ни на минуту не спалзывала с лица его; он был счастлив, хотя нередко можно было поручиться, что сам он не знает, где и будет ли завтра обедать. Еще любил он похвастать всем, что приходило ему на ум: значительностью своих родственников, красотою своей покойной матери, пирушками, которые задавал в старину, рысаком своего брата, балом, который задаст на своей свадьбе, интригой, которую непременно довел бы до благополучного конца, с какой-то губернаторшей, если б не помешал сам губернатор, и так далее. Приятели считали его добрым малым, но сам он был о себе мнения высокого и особенно находил в себе много остроумия. Поэтому острил, отпускал плоскости на каждом шагу и любил экспромтом рассказывать анекдоты, говоря всегда с примесью водевильных куплетцев, которых знал множество. В ту минуту, как он входил в кабинет Хлыстова, лицо его сияло необыкновенным весельем, глаза самодовольно блистали: по всему видно было, что он приехал в коляске.
— Наше вам почтение-с, с пальцем девять-с, с огурцом пятнадцать! — сказал он, пародируя голосом и жестами актера, который с ловкостью передразнивает петербургских апраксинцев, и вслед за тем запел:
Здравствуй, кум ты мой любезный,
Здравствуй, кумушка моя.
Вот вам в лицах суд уездный
И измученный судья!
— Ну что, каково изволили почивать-с? — продолжал он же останавливаясь. — А со мной случилась сейчас (и тут он уже заговорил собственным тоном) прекурьозная гистория: еду, братец, я в коляске… ты знаешь, я иначе не езжу… навстречу идет такая странная фигура в фризовом сюртуке… Я, братец, снимаю шляпу и кланяюсь ей с глубочайшим почтением; она так и разинула пасть, остановилась, глядит на меня во все глаза. Кучер кричит: «Пади! пади!»… И что ж, братец? Вот диво, уж подлинно нечаянный каламбур: она в самом деле зашаталась да и упала перед самыми лошадьми…
Но господин в оливковой венгерке принужден был остановиться на самом патетическом месте своего рассказа: снова раздался звонок. Запыхавшись и отряхивая со шляпы легким хлыстиком свежий, только что выпавший снег, в кабинет вбежал молодой человек, одетый в темно-зеленый фрак, в бархатном жилете и лакированных сапогах.
— Bon jour [21], душенька! Как поживаешь? — сказал он, подскакивая к Хлыстову и покрывая его щеки поцелуями. — А, Зубков (так звали господина в венгерке), ты уж здесь. Я так и думал — коляска стоит у подъезда; кому, думаю, кроме тебя, приехать в коляске!.. Только, братец, воля твоя — подгуляла!
— Чем же? — произнес Зубков и поспешил подойти к окну, чтоб удостовериться, действительно ли она подгуляла.
— Ну вот, — продолжал новопришедший, оглядывая кабинет Хлыстова с чувством родственного участия, потому что всё в нем, кроме стен и полов, было, так сказать, творением рук его. — Кабинетец стал хоть куда, настоящий литераторский, как подобает у артиста! — В Петербурге, в некотором кругу, есть обычай называть «артистами» всех, кто не чиновник, не военный и не купец. — И письменный стол, и этажерка, и Вольтеры, и полочка для книг, и ящик для рукописей… Поздравляю, поздравляю от всего сердца! — Он чмокнул Хлыстова в губы и продолжал не останавливаясь: — Ах, какая чудесная палка! Где ты, монтер, достал? Что за уморительная рожа. Китаец, должно быть, китаец… мандарин пятой степени!.. Ха-ха-ха… и с золотом… отделка чудесная… Ба! даже н наконечник-то золотой… А уж рожа, какая рожа! — он чмокнул ее. — Просто я влюбился в твою палку… Не могу расстаться!.. Ей-ей, не могу… Продай, братец! Сколько хочешь возьми… Или дай хоть на недельку… Я вынесу ее на сцену… Ха! ха! ха! Уморю всех… Ну так даришь, что ли, моншер?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: