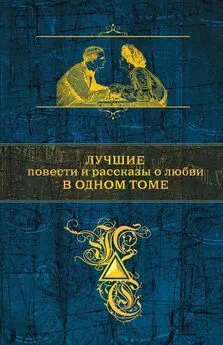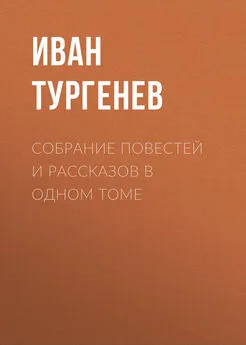Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Название:Том 10. Повести и рассказы 1881-1883
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Тургенев - Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 краткое содержание
Десятый том включает художественные произведения, созданные писателем в последние годы его жизни, а также переводы из Г. Флобера, критику и публицистику конца 1850-х — 1880-х годов.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Повести и рассказы 1881-1883 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мыслями о том, как будет выглядеть цикл «Стихотворений в прозе» в печати, объясняется и дальнейшая работа Тургенева над усовершенствованием, т. е. непосредственно над текстом этих произведений. Здесь впервые даны заглавия стихотворениям: «Деревня», «Чья вина?», «Разговор», «Дурак», «Чернорабочий и Белоручка», «Житейское правило» (1878 г.), «К***», «Песочные часы», «Мы еще повоюем!», «Н. Н.», «Морское плавание», «Монах». Получили другие заглавия стихотворения: «Встреча», «Роза», «Воробей», «Посещение», «Два брата», «Голуби», «Природа». Очень немногие стихотворения были переписаны почти без правки. В большую же часть текстов Тургенев продолжал вносить — чернилами, а затем карандашом — довольно многочисленные поправки стилистического характера, в частности, уничтожил случайно получившиеся ритмы стиха и рифмы. Очень существенны различные вставки в текст, способствовавшие созданию общего настроения для всего цикла при всем разнообразии его тематики (интересны, например, вставки в стихотворениях «Собака», «Порог», «Эгоист», «Что я буду думать…», «Монах»). Большой правке, как и в черновике, снова подверглась «Деревня».
Всё сказанное выше относится к первой, бо́льшей части рукописи — к стихотворениям 1877–1879 годов, которые в тетради в 130 страниц заняли 117 страниц текста. После перерыва в полтора года, с июня 1881 г. Тургенев стал записывать в эту тетрадь новые стихотворения — тетрадь с беловыми автографами с этого времени получила вид черновой рукописи. В июне 1881 г. Тургенев написал семь стихотворений (№ 69–75), дошедших до нас в единственной редакции, за исключением «Молитвы», отделкой которой Тургенев усиленно занимался, подготавливая ее к печати.
Еще целый год не вписывал Тургенев в тетрадь беловых автографов ни одного произведения. В июне 1882 г. он записал пять новых стихотворений в прозе (№ 76–80), над которыми, особенно над «Истиной и Правдой», он много работал, но только одно из них, «Русский язык», было напечатано при жизни писателя.
В августе 1882 г. Тургенев обещал Стасюлевичу дать «Стихотворения в прозе» в его журнал. Писатель стал активно готовить их, и в беловой тетради появились еще три стихотворения: 81. «Житейское правило» (октябрь); 82. «У-а… У-а!..» (ноябрь); 83. « Мои деревья» (ноябрь). Над этими стихотворениями Тургенев тщательно работал, особенно над последними двумя, которые испещрены поправками. Он явно готовил их к печати, но при его жизни им (№ 82 и 83) не суждено было увидеть свет.
На последней странице рукописи карандашом обозначено: «1883!» — однако под этим годом уже ничего не было написано.
Три отдельных листа со стихотворениями «Деревня», «Роза», «Лазурное царство» и «Христос», сохранившиеся в парижском архиве Тургенева, представляют собой перебеленные автографы из беловой тетради с небольшой правкой, после которой «Лазурное царство» и «Роза» не имеют разночтений с наборной рукописью; в «Деревне» сохраняются самостоятельные варианты с некоторым сокращением текста белового автографа; стихотворение «Христос» имеет небольшие разночтения с окончательным текстом. Эти автографы являются промежуточным звеном между текстами беловой тетради и наборной рукописи. Возможно, они были приготовлены для каких-нибудь переводов на иностранные языки.
Появление «Стихотворений в прозе» в печати было следствием настойчивых просьб к Тургеневу со стороны редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, посетившего писателя в Буживале 31 июля (12 августа) 1882 г. Сам Стасюлевич подробно рассказал об этой встрече:
«Среди разговора я спросил Тургенева, не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух. <���…> „Впрочем, — прибавил он, подумав: — хотите я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать!“ Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это такое может быть? — он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал всё в портфель. „Это мои материалы, — заключил он: — они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу; так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю всё это и отдам вам на хранение до моей смерти“. Я признался ему, что я все-таки не хорошо понимаю, что это такое за „материалы“, и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала „Деревню“, а потом „Машу“. Мастерское его чтение последней подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять; он прочел еще две-три пьесы. — Нет, И. С. — сказал я ему: — я не согласен на ваше предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этою прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорей умерли; на это я не согласен; а мы просто напечатаем всё это теперь же. — Тут он мне объяснил, что между этими фрагментами есть такие, которые никогда или очень долго еще не должны увидать света: они слишком личного и интимного характера. Прения наши кончились тем, что он согласился переписать только те, которые он считает возможными для печати; и действительно, недели через две прислал мне листков 50, тщательно и собственноручно переписанных им, как это всегда бывало с его рукописями. При обратном моем проезде, когда я был у него 5 [48]сентября <1882> в последний раз, Тургенев выразил сомнение относительно только одной пьесы, особенно замечательной <���„Порог“>, и потом кончил тем, что в корректуре вынул ее и заменил другою» [49].
Тургенев прислал Стасюлевичу сначала не пятьдесят, а только сорок стихотворений, сопроводив, их перечнем на отдельном листе, а затем, вместе с письмом от 5 (17) августа 1882 г., послал «еще десяток», «для укомплектования полсотни», а именно: «Собака», «Нищий», «Услышишь суд глупца…», «Последнее свидание», «Два богача», «Корреспондент», «Стой!», «Монах», «Мы еще повоюем!», «Русский язык» [50].
В том же письме Тургенев просил Стасюлевича перечесть стихотворения, а затем переслать всю рукопись Анненкову, — «так как, — пишет Тургенев, — без его окончательного рассмотрения я до сих пор ничего не печатал и впредь не намерен». В Буживале 3 (15) сентября 1882 г. состоялось второе свидание Тургенева со Стасюлевичем. А на другой день после встречи и заключительной беседы со Стасюлевичем Тургенев писал Анненкову, что «Стихотворения в прозе» он передал в «Вестник Европы» «с непременным условием, чтобы они были посланы Вам и чтобы Вы разрешили следующие вопросы: a) следует ли их вообще печатать? b) следует ли выставить мое имя? c) если печатать, то какие выкинуть? Это было мое conditio sine qua non <���обязательное условие>. Стасюлевич согласился…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: