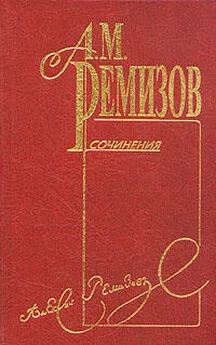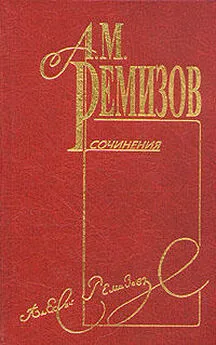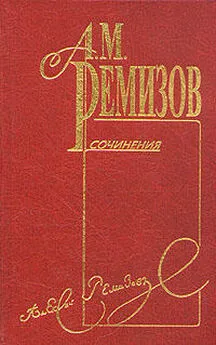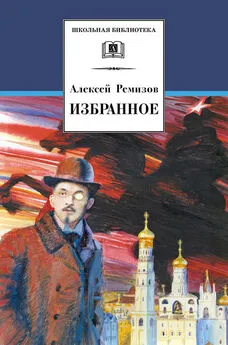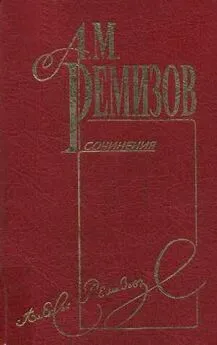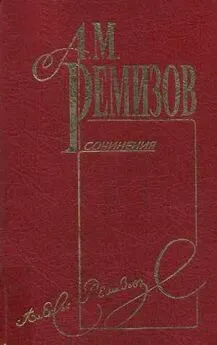Алексей Ремизов - Том 3. Оказион
- Название:Том 3. Оказион
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00492-1, 5-268-00482-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Ремизов - Том 3. Оказион краткое содержание
В 3-м томе Собрания сочинений А.М. Ремизова представлены произведения малой формы, созданные в России в 1896–1921 гг. Объединенные автором в циклы реалистические рассказы образуют целостную литературную автобиографию, в которой отразились хроника русской жизни и сейсмология народных умонастроений первых двух десятилетий XX в.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Оказион - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приходило время отпуска, а Павел Герасимович и думать боялся об отъезде, как будто с Дегтярной он только и может следить за событиями, поутру передвигая флажки по стенной марксовой карте, и не сегодня-завтра выпадет ему на долю защищать самое Дегтярную. Но как там, на Бассейной, пожалев собаку, над которой мудровали ошалелые от жары прохожие с дворником во главе, позавидовал он ей, до кости пронятой, так и тут, в комнатенке своей подкрышной, прокуренной, не представляя себе другой жизни, кроме своей зимней с газетами утренними и вечерними, он завидовал всем, отъезжавшим на волю, хотя бы в Озерки.
Слышал он, что никогда так не цвели поля, как в этот, помутнелый от крови и горя, жестокий, роковой год, а на Москве такой чудесный липовый цвет, вся Москва цветет, — всполошились пчелы подмосковные, не зная, куда и лететь, и на Ивана Великого рой сел.
Кто живал по нужде лето в Петербурге, тот хорошо знает, что за удовольствия вечерами нетемными в полуопустелых каменных домах. Окна раскрыты и на весь двор граммофон и с соседнего двора граммофон и как-то так без всякой отдышки, а тут еще какой любитель на скрипке упражняется, либо певец поет, и тоже, ну, хоть бы разок передохнул. А утихнет граммофон, оборвется скрипач, уймется певец, другое пойдет уж обязательно, и это из вечера в вечер и куда за полночь, уж кого-то щекочут — должно быть, что щекочут! — и тот орет, а чуть свет — молотком по железу, и звенит день-деньской на постройках.
В ту ночь особенно было шумливо.
В большую квартиру с забеленными окнами с вечера набрался народ: с дачи ли сами приехали, либо приятелей своих пустили переночевать — окна, конечно, настежь, и видно, не простой приезд, добра всякого спиртного стол уставлен. Спервоначала-то все шло ничего, пили и кричали ура, потом на рояле играли, хорошо играли, а уж потом — совсем нехорошо! — хором петь принялись и, ведь, как пели, — так и нарочно не сговоришься, так врозь.
Воробушкин пробовал заснуть, и так приладится и этак, и только что заведет глаза и вдруг, словно над ухом, как харкнет… Вставал Павел Герасимович, закуривал папироску, заглядывал в окно: и ночь, а теплынь, что днем, и там в третьем этаже, внизу среди пирующих какой-то огромный один волосатый легкости ради обнажился и, неловко продвигаясь среди дам, показывал пальцем, — дамы визжали.
Был у Воробушкина приятель Щелин Михаил Петрович, вместе учились, замечательный человек… впрочем, может, это не правда, а только такая шла замечательная молва> будто как-то летом за ужином на сон грядущий Щелин в варенце жука проглотил, и, сами понимаете, жука имея во чреве, был будто бы по этой самой причине, как жук, жудлив вечерами и особенно к теплой погоде. Об этом приятеле своем, о Щелине жудливом, в душной тоске своей вдруг вспомнил Павел Герасимович, вспомнил полученное от него письмо, и уцепился, как за свое единственное спасение, и в бессонный подутренний час решил про себя, воспользовавшись отпуском, бросить Дегтярную да в Качаны к Щелину.
«Вот уж месяц, как мы здесь, и так хорошо, что и в войну перестали верить…» — выговаривалось письмо щелинское, заманивая в Качаны, где никогда еще так не цвели поля, как в этом году.
И, решившись ехать, Воробушкин поверил приятелю и не только в цвет полевой, но и в безмятежие жития качановского.
«Нашелся-таки уголок, — думал Павел Герасимович, — есть место и среди пожара нашего, где про войну забыли!»
А потом спохватился:
«Да не шутит ли Михаил-то Петрович? Да и в самом деле, есть ли на русской земле хоть один человек, который о войне не помнит, и есть ли такое место на земле, где о войне не слышно, разве что на кладбище?»
И, отчаявшись в сне, под звон железа, досадовал:
«Ишь, куда заманивает!»
Но скоро и передосадовал.
Щелин, кроме того, что жундел, т. е. был невообразимо говорлив, Щелин еще и чудил: ведь это он построил у себя, в качановском саду, капкан вроде такой калитки вертящейся — как попадешь, а попадешь непременно, потому что уж очень у заманчивого места в уединении воздвигнута была эта самая калитка, и уж сколько ни бейся, а без посторонней помощи, а стало быть, и огласки, нипочем не выскочишь! Конечно, чудак, и обижаться, досадовать — просто грешно.
И, передосадовав, на краткий час забылся Павел Герасимович, и снилось ему, будто сидит он с Щелиным в Качанах — с Михаилом Петровичем и Марьей Сергеевной и едят раков: у него две раковые шейки в руках, а Щелины рачьи ножки сосут. И отдал он свои раковые шейки по шейке каждому — одну Михаилу Петровичу, другую Марье Сергеевне, и остался у него рыбий хвост, и вдруг пришла прачка и принесла узел с грязным бельем обратно.
С тем и проснулся.
На следующий день Воробушкин, за день окончательно решившись покинуть свою Дегтярную, взял билет и стал понемногу укладываться. Еще через день дал телеграмму в Качаны. А в субботу вечером, Господи благослови, пустился в путь.
Неужто ж через какие сутки — и это правда! — попадет он в такое место, на такую землю земли русской, — где так хорошо, что и в войну перестали верить?
Ранним утром Воробушкин проснулся. Поезд стоял, ревели быки. Осторожно спустившись с верха, где без подушки — по военному времени подушки не полагалось — проспал мирно трясучую ночь, вышел он на площадку, закурил и ему самому захотелось помычать — утро было такое свежее, такое ясное и какие-то птички пели, а он только и умел, что птичку представлять да мычать.
Конечно, быки мычали, быки ревели не от удовольствия, не этому утру свежему и ясному, — чуяли быки свою скорую смертушку, а помирать кому же хочется, и вот вопияли, обреченные, наперекор утру ясному: один бык начинал, а в его рев врывались другие.
И, когда застучал тяжелый бычий поезд и все быки заревели разом, пошел и человеческий поезд, а долго еще слышался рев, словно ура кричали.
Тут солнце поднялось над леском такое яркое, в глазах зарябило, и Воробушкин вернулся в вагон и с бокового порожнего места, чуть приотворив занавеску — соседи еще мирно почивали, — глядел через запыленное окно на пролетавшие поля и леса, и реки и речки, на простор наш русский земли родимой, которую охватить пожар наперекор цветам полевым, полям цветущим, как никогда еще.
На скучной пересадке, где приходилось поджидать не один час, Воробушкин, напившись чаю, слонялся по платформе от вокзальной кухни — по случаю воскресного дня повара что-то вкусное стряпали — и дальше мимо телеграфа с засматривающими из окна телеграфистками, до тесовой, выкрашенной в желтое, лавочки для воинских чинов, где над розовыми пряниками висела колбаса и стояли бутылки с квасом.
У жандармской комнаты прямо на запыленной затоптанной траве лежала молодая баба с грудным ребенком, тут же и чайничек стоял. Говорили, что солдатка: проводила мужа, очень убивалась и теперь домой поедет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: