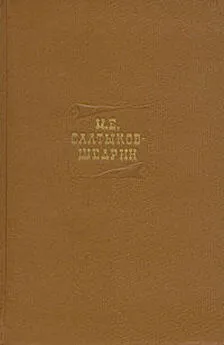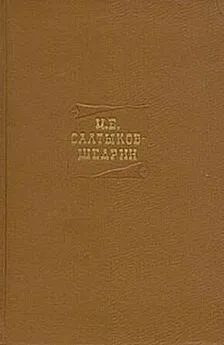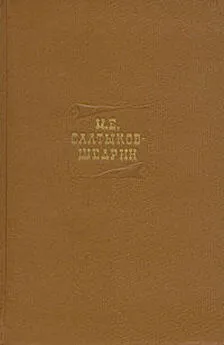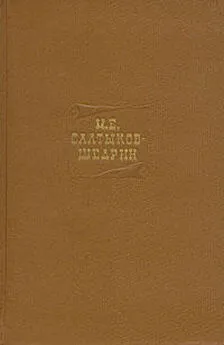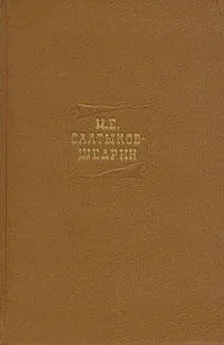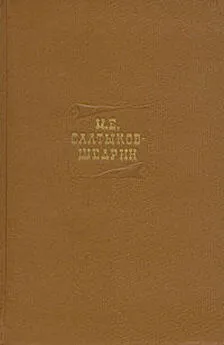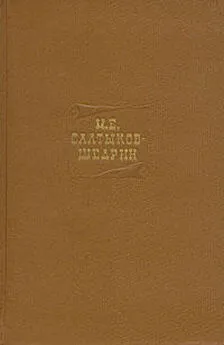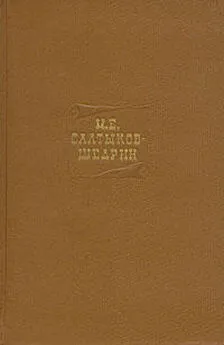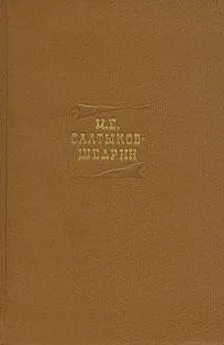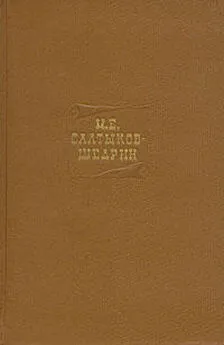Михаил Салтыков-Щедрин - Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
- Название:Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Уж это, батюшка, должность такая, — объяснял он, — повесь-ка я на стену вот этот инструмент (он указывал на нагайку) — голову на отсечение отдаю, что через два дня весь уезд вверх ногами пойдет!
И действительно, никогда, даже дома, не выпускал нагайки из рук.
Взятку он любил, но никогда не подбирался к ней, как тать в нощи * , не сочинял предварительных проектов насчет ее обретения, не каверзничал, а брал с маху. И притом брал исключительно с имущих, а неимущих только сек. Сечение представляло, в его глазах, прерогативу; взятка была лишь уступкой мамоне * , делаемой нередко даже в ущерб прерогативе. Поэтому он и взятку старался облечь в форму грабежа. Нужно денег — летит на гуртовщика, потом летит на лесопромышленника, потом на содержателя крупчатной мельницы, и всегда берет без дела, без повода, здорово-живешь. Нет нужды в деньгах — оставляет толстосумов в покое, а неимущих продолжает сечь. Иногда он выказывал даже замечательное бескорыстие и делал в назначенных к получению кушах значительные и ничем не мотивируемые сбавки. Но это допускалось лишь в тех случаях, когда пациенты льстили его самолюбию, то есть говорили ему в глаза, что он лихой, что он в одном своем кулаке держит целый уезд, и что не будь его — им пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту слабую струну исправника и пользовались ею.
— А я, сударь, был намеднись в Латышове, — говорит, например, промышленник, на которого наложена сторублевая дань, — ну, и подивился-таки!
— А что?
— Шелковые стали, с тех пор как ручки-то вашей отведали!
— То-то; вас не подтяни, вы все разбойниками будете!
— Что говорить! по нашем брате палка плачет — это верно!
— Ну, черт с тобой, давай пятидесятную… живо!
Благодаря этому обстоятельству у него никогда не было лишних денег, да и те, которые были, он любил пропить, прогулять и вообще рассорить более или менее непроизводительным образом.
— Я, — говорил он, — не то, что́ другие; я с народа беру, да в народ же и пущаю.
Водку он пил не запоем, но во всякое время и столь же много, как бы запоем. Поэтому, хотя он никогда не бывал окончательно и безобразно пьян, но постоянно находился в тумане и никогда отчетливо не понимал, куда тычет руками. Там, где он «раскидывал свой шатер» * , происходило одно из двух: либо сеченье, либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что он проживает свои доходы как благородный человек, а толстосумы даже называли его душевным человеком.
— У нас исправник — душа человек! — говорили они, — он с тебя возьмет, да он же и за стол рядом с собою посадит!
Перед начальством Петр Матвеич трепетал. Но не просто трепетал, а любил трепетать, трепетал не только за страх, но и за совесть. Он страстно любил встречать, провожать, устремляться, застывать на месте, рапортовать, а потому всякий проезд начальства, хотя бы и не совсем того ведомства, к которому он принадлежал, был для него торжеством. Прознав о предстоящем «проследовании» через его уезд, он за́годя приходил в волнение, скакал по дорогам, свидетельствовал ямских лошадей, заготовлял квартиры, сеял направо и налево мужицкие зубы, и даже прекращал на время употребление водки, так что самое лицо делалось у него белое. Подстерегши начальство, под дождем и морозом, на границе уезда, он вытягивался в струну, замирал и рапортовал; потом кидался в телегу и как бешеный скакал вперед, оглашая воздух гиканьем.
— Мы, батюшка, перед начальством — все одно что борзые-с, — говорил он, — прикажут: разорви! — и разорвем-с!
И точно, слушая, как он говорил это, видя, как он вращал при этом глазами и как лицо его становилось из красного фиолетовым и даже синеватым, невозможно было усомниться ни на минуту. Разорвет.
Начальство знало это и хвалило Хмылова.
— Хмылов, — выражалось оно, — это лихой! этот подтянет!
Даже крестьянские мальчики и те, наслушавшись расточаемых со всех сторон Хмылову похвальных аттестаций, говорили:
— Вот погоди! ужо проедет исправник — он те подтянет!
Дома Петр Матвеич бывал только наездами, на сутки, на двое, не больше. Налетит, перевернет все и всех вверх дном — и опять исчезнет недели на две. Он сам охотно сознавался, что ничего не смыслит в деревенском хозяйстве, и ставил это себе не в порок, а в достоинство.
— Какой я деревенский хозяин! — выражался он, — я хозяин уезда — вот я кто!
Поэтому, как бразды хозяйственного управления, так и воспитание детей он вполне предоставил жене, требуя только, чтобы в случаях телесной расправы с детьми она не сама распоряжалась, а доводила о том до его сведения.
— Вы, бабы, — говорил он, — не сечете, а только мажете. А их, разбойников, надо таким манером допросить, чтоб они всю жизнь памятовали.
И так как дети действительно росли разбойниками, то каждый налет Петра Матвеича в деревню неизменно сопровождался экзекуцией. «В гроб ракалий заколочу!», «Запорю мерзавцев!» — вот единственные проявления родственных отношений, которые были обычными в этой семье. Но опять-таки и здесь на первом плане стояла не сознательная жестокость, а обряд. Петр Матвеич помнил, что он и сам рос разбойником, что его самого и запарывали, и в гроб заколачивали, и что все это, однако ж, не помешало ему сделаться «молодцом». А следовательно, и детям те же пути не заказаны. Растут, растут разбойниками, а потом, глядишь, и сделаются вдруг «молодцами».
К отцу Петр Матвеич относился довольно равнодушно. Хотя предположение о таинственном капитале и волновало его, но волновало лишь потому, что этим капиталом все домашние мозолили ему глаза. Но старик был к нему почти ласков и, по-видимому, даже искал у него защиты против ехидства Софрона Матвеича. В присутствии старшего сына дедушка прекращал свои проказы, переставал бормотать, свистать и наполнять дом гамом. По временам он даже останавливался перед Петром Матвеичем и с какою-то непривычною ему задушевностью в голосе произносил:
— Рви!
— Помилуйте, папенька, я свои обязанности очень знаю! — возражал на это Петр Матвеич.
Но старик оставался непреклонен и повторял:
— Рви! рви! рви!
Петр Матвеич на минуту задумывался, потом внезапно приказывал запрягать тарантас и летел навстречу гурту.
В эти дни исправник был неумолим и грабил все, что положено, не поддаваясь ни резонам, ни лести.
Арина Тимофеевна была женщина смирная, но отличалась тем, что даже в домашнем обиходе никогда не могла с точностью определить, чего ей хочется. Может быть, поесть, может быть, испить, а может быть, и просто по двору побродить. Случилось это с нею с тех пор, как Петр Матвеич (молодые еще они тогда были) однажды ударил ее под пьяную руку по темени.
— Как ударил он, это, меня по темю, — рассказывала она всегдашней своей собеседнице, попадье, — так с тех пор и нет у меня понятия. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего хочется — не разберу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: