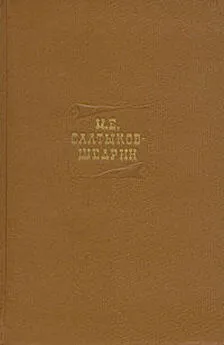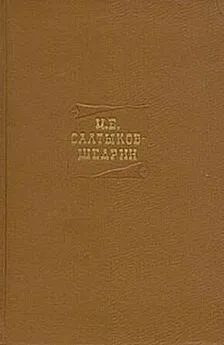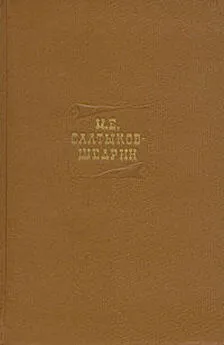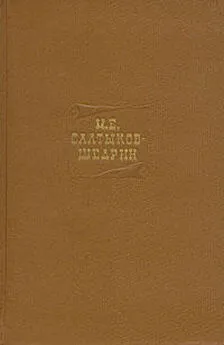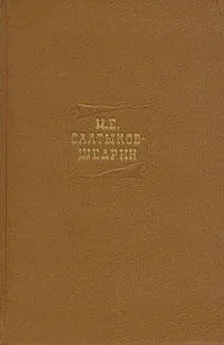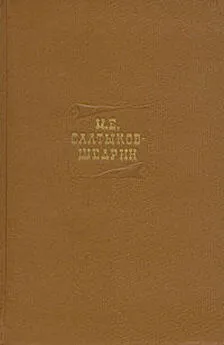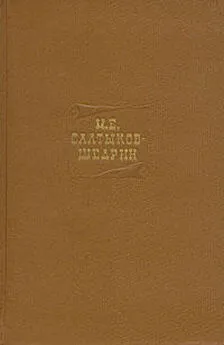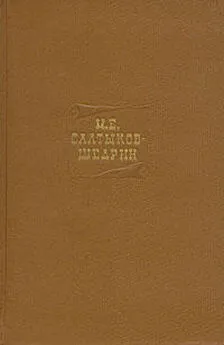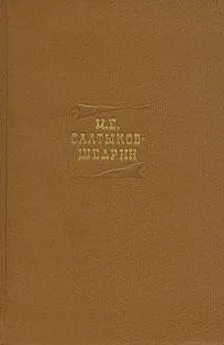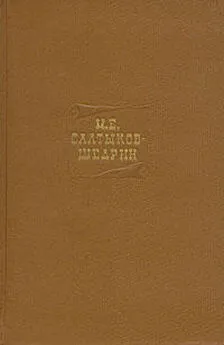Михаил Салтыков-Щедрин - Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
- Название:Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
В десятый том входит одна из наиболее известных книг Салтыкова — «Господа ташкентцы», которая возникла на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века и, как всегда у этого писателя, была нерасторжимо связана с тогдашней русской действительностью. Также в том входит «Дневник провинциала в Петербурге».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 10. Господа «ташкентцы». Дневник провинциала - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Нет-с, вы себе представить не можете! Это такой-с… это, можно сказать, гордость-с… Это просто именно…
Родители радовались и приглашали учителя в воскресенье отведать кулебяки с сигом.
Природа дала Мише понятливость; благонравие дала ему среда, или, лучше сказать, квартира, в которой он воспитывался. Эта квартира была совершенно своеобразная, так сказать, не самостоятельная, а служившая продолжением департамента. Обстановка, в которой жило семейство Нагориовых, вовсе не говорила о том, что тут живут люди, которые бьются со дня на день и думают только о том, как бы спастись от нищеты. Напротив, здесь виделась даже известная степень изобилия и запасливости. Но за всем тем на всем лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостности, что свежий человек, без всяких посторонних внушений, понимал, что позволь себе хозяин хотя на пядь отступить от самой строгой аккуратности — и вся эта запасливость разлетится в прах. Все было пригнано и урезано так, чтобы жизнь вращалась только около необходимого, не дозволяя себе никакого уклонения в сторону, а тем менее баловства. Если на мебели можно сидеть — ну, и слава богу; если в подсвечник можно вставить свечу — вот все, что требуется. Вся роскошь заключалась в чистоте и в той казенной симметрии, с которою была расположена каждая вещь. Казалось, что эту квартиру когда-то обмёблировали, засадили туда каких-то людей, не совсем арестантов, но и не совсем неарестантов, и потом закупорили со всех сторон, с тем чтобы туда никогда не проникала струя свежего воздуха. Затем постепенно образовалась какая-то кисленькая атмосфера, к которой живущие в ней так принюхались, что уже не обнаруживали ни малейшего поползновения освежиться. Эти люди отмеривали время с такою же безучастною объективностью, с какою аршинник меряет материю: вот отмерено двадцать четыре аршина, потом предстоит отмеривать еще двадцать четыре аршина, потом еще, а там гроб — и конец отмериванию. Вне стен квартиры — все было неизвестность и мрак. Внешний мир наполнен подводных камней, опасностей и обид. Попробуй-ка сунься выйти на улицу — как раз наскочишь на сорванца, который или язык тебе покажет, или архивной крысой обзовет, или просто до смерти замистифирует. А дома, между тем, тепло и уютно; знаешь, где какая вещь лежит, ни на что не наткнешься и уж, конечно, не поскользнешься на пространстве каких-нибудь пяти-шести сажен. Стало быть, жить следует таким образом: как можно больше прижиматься к стороне, никого не затрогивать и твердо знать, в какие часы какая обязанность предстоит, не смешивая и тем более не допуская легкомысленной забывчивости.
Быть может, этот безрадостный склад жизни возбуждал когда-то в сердце смутный ропот, но с течением времени он так всосался в плоть и кровь, что сделался второю природой. Ни Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда: не только в гости или в театр, но просто прогуляться. Они выходили из квартиры только по нужде: он — в департамент, она — на рынок, и забыли даже о возможности каких-либо других отлучек. За все последнее время Семен Прокофьич только два раза вышел прогуляться, да и тут не обошлось без неприятностей. В первый раз налетел на него какой-то сорванец, объявил себя старым знакомым, очень искусно выпытал, что у Семена Прокофьича была приятельница, какая-то Катерина Прохоровна, уверил, что она умерла, и в ту самую минуту, когда старик Нагорнов вошел во вкус, стал охать и ахать, — показал ему язык и убежал. В другой раз налетел другой сорванец, снял шляпу, перекрестился и поцеловал его прямо в орден Святыя Анны, который Семен Прокофьич очень тщательно и не без некоторого хвастовства расстилал у себя на груди. Все это было обидно и больно, все убеждало сидеть дома и как можно реже переступать за порог его.
В такой атмосфере Миша невольно складывался благонравным, аккуратным, усидчивым и почтительным ребенком. С самой ранней юности слух его все чаще поражали два слова: служба и департамент. С утра до вечера он слышал разговоры о департаменте, в которых сосредоточивалось все: и сетования, и радости, и надежды, и предвидения будущего. Спрашивал ли он утром, куда папаша сбирается, — ему отвечали: в департамент. Кто в передней дожидается с портфелем? — курьер привез бумаги от директора департамента. Чему папаша радуется? — ему привезли орден из департамента. Отчего папаша встревожен? — он боится, чтоб его не обошли в департаменте наградой. Начинал ли он резвиться шумливее обыкновенного — его останавливали фразой: не шуми, не мешай папаше, у него завтра доклад в департаменте. В скрипе пера, в щелканье косточками счетов, раздававшемся по вечерам в тиши отцовского кабинета, в той торопливости, с которою подавался обед по приходе отца, — везде слышался департамент. Даже когда Семен Прокофьич заваливался после обеда всхрапнуть на диване, и тогда невольно приходило на ум: так может храпеть только человек, намаявшийся утром в департаменте! Одним словом, было очевидно, что папаша был прикреплен к департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то папаша изойдет кровью, а за ним следом изойдет кровью и все то, что раз навсегда заперто в этой квартире.
Правда, что представления Миши о департаменте еще были довольно фантастичны. Он не понимал действительной департаментской организации, а скорее представлял ее себе в виде какого-то загадочного царства теней. Войдя в это царство, папаша перестает быть папашей, сохраняет только крест на шее и, окруженный Васильем Прохорычем, Авдеем Дмитричем, Алексеем Иванычем и Владимиром Николаичем (так назывались столоначальники Нагорнова), витает в пространстве, созерцая лицо директора и непрестанно славословя пред ним. Но вот пробило четыре часа — и видения исчезают. Папаша снова делается папашей, надевает пальто и вместе с прочими воплотившимися тенями, словно из темной трубы, выползает из-под арки Главного штаба * . Через минуту все пространство от Малой Миллионной до Подьяческих наполняется бледными, изнуренными лицами, на которых читается одна настоятельная мысль: пора водку пить!
Но как ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что в мозгу Миши уже внедрилась идея департамента. Департамент — это целое будущее; департамент — это глухой переулок, из которого можно выйти только назад по Большой Морской в Подьяческую. Департамент — это сама неизбежность, это шхера, около которой как ни лавируй, все-таки никак не минешь, чтобы не наткнуться на нее.
— И благодетельная шхера-с! тут не разобьешься, а слаще, чем в наилучшей гавани отдохнешь! — объяснял Семен Прокофьич, когда кто-нибудь позволял себе выразить в его присутствии хоть какое-нибудь сомнение насчет живительных свойств департамента.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: