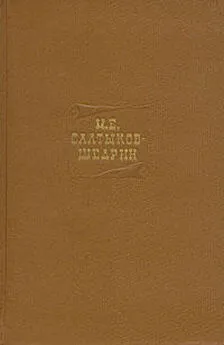Михаил Салтыков-Щедрин - Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке
- Название:Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Салтыков-Щедрин - Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке краткое содержание
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
Книга «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом-осенью 1880 г. Она и написана в форме путевых очерков или дневника путешествий. Замысел «ряда писем, касающихся исключительно современности» — «Писем к тетеньке», возник у Салтыкова сразу же после того, как он окончил, во второй половине июня 1881 г., печатание в «Отечественных записках» книги «За рубежом». В двух последних главах этого произведения, написанных под непосредственным впечатлением от событий 1 марта, Салтыков уже начал разрабатывать те вопросы, которые ставила перед русским обществом политическая действительность периода начавшегося вхождения страны в новую полосу реакции, оказавшейся одной из наиболее тяжелых в жизни России.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 14. За рубежом. Письма к тетеньке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…бывают исторические минуты, когда… массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они… упорствуют, оставаясь во тьме и недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими. — Одним из путей борьбы правительства и реакции с революционным движением были попытки привлечения к этой борьбе широких слоев народа и общества — программа «единения с народом». На официозном языке эпохи это был период так называемой «народной политики» или «игнатьевской эры» (по имени министра внутренних дел Н. П. Игнатьева, назначенного на этот пост 4 мая 1881 г.). Путем широко развернутой социально-экономической, а отчасти и политической, демагогии правительство надеялось, по выражению Глеба Успенского, «вышибить днище у интеллигенции» (подразумевается — революционно-народнической), то есть изолировать активно-революционные элементы страны от общества, народа, превратив последние в союзников самодержавия по борьбе с «крамолой». Эта охранительная тактика, лежавшая также в основе всех «либеральных» начинаний Лорис-Меликова, с особым размахом и в наиболее «чистом» виде стала осуществляться новым министром Игнатьевым. На летние месяцы 1881 г. падают первые еврейские погромы на юге, погром интеллигенции, учиненный «охотнорядцами» в Москве, и многочисленные «деревенские истории» с задержанием и избиением крестьянами мирных пропагандистов-народников, учителей и т. д. — истории, столь ярко запечатленные в тогдашних очерках Глеба Успенского, особенно в цикле «Без определенных занятий». Широкое распространение среди крестьянских масс получил слух о том, будто убийство Александра II было местью «образованных», «господ» за отмену им крепостного права. Слух этот содействовал усилению подозрительности крестьян по отношению к интеллигенции.
«А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать». — «Трезвое слово», или, в иронической парафразе Салтыкова, « трезвенное слово » — один из фразеологизмов реакционной националистической публицистики 70-80-х годов. «Русского трезвого слова» требовала эта публицистика от общества, земства и правительства в ответ на «распространение гнилостных миазмов западного нигилизма». Ближайшим образом Салтыков сатирически отталкивается здесь от передовой статьи И. Аксакова в номере «Руси» от 15 мая 1881 г. Статья эта заканчивается словами: «Терпение русского народа, национальную гордость России нельзя безнаказанно подвергать испытаниям. Пора, пора, наконец, сказать трезвое, твердое слово!»
Сидевший передо мной экземпляр земца … Через десять минут мы были в Кельне. — Земству, «погрузившемуся в дела внутренней политики», и его реакционной роли в период «игнатьевской эры» Салтыков через несколько месяцев специально посвятит главы V–VI «Писем к тетеньке». Отсылая читателя к комментариям к этим главам, укажем здесь, что диалог автора с земцем, происходящий в купе железнодорожного вагона, построен в форме пародии на один из «земских» фельетонов А. Суворина, в котором излагается беседа автора с неким земцем на волжском пароходе (А. Суворин , Дельный разговор. — «Новое время», 1881, № 1867). «Конечно, этот земец карикатура, — отмечала современная критика, — но тем не менее карикатура, не лишенная реальной правды и, во всяком случае, воспроизводящая довольно метко отрицательные стороны типа усердных земских деятелей самой последней формации, вроде гг. де Каррьера и Мичурина» (В. Буренин , Литературные очерки. — «Новое время», 1881, 26 июня, № 1912. А. А. де Каррьер — лидер крайне правой дворянской группы в Елизаветградском земстве; Б. А. Мичурин — лидер такой же группы в Рязанском земстве).
…Марат именно такого рода целебные средства предлагал… — В период кризиса самодержавия на рубеже 70-80-х годов большинство земств не раз выражало правительству готовность участвовать в борьбе с революционерами. Для характеристики агрессивных настроений правых групп в земствах, их писанных и исписанных проектов «упразднения интеллигенции», Салтыков пользуется образом Марата. Однако он имеет в виду не историческую фигуру известного деятеля Великой французской революции, а тот ходячий образ кровожадного садиста, который был создан дворянскими и буржуазными историками. Ближайшим образом имеется в виду знаменитая фраза Марата из его прокламации от 14 июля 1790 г. Марат заявлял в ней, обращаясь к массам: «Пять или шесть сотен отрубленных голов <���контрреволюционеров> обеспечили бы нам «спокойствие, свободу и счастье».
Был, дескать, я разбойником печати… — Полностью цитируется так: «мошенники пера и разбойники печати». Выражение впервые было употреблено реакционным беллетристом и публицистом Болеславом Маркевичем в «Москов. вед.» 1875 г. по адресу радикальной журналистики, но было тотчас же подхвачено этой последней в качестве nom de guerre для писателей реакционного лагеря, в частности, для того же Маркевича, Каткова и его сотрудников. Салтыков пользовался этим выражением очень часто (см., например, I и III главы «Писем к тетеньке», а также главы «Первое марта», «Первое июня» и, особенно, «Первое мая» в цикле «Круглый год»).
… о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексея Андреевича! — Имеются в виду кн. М. С. Воронцов-Дашков и гр. А. А. Аракчеев.
Письма к тетеньке *
Замысел «ряда писем, касающихся исключительно современности» [338], возник у Салтыкова сразу же после того, как он окончил, во второй половине июня 1881 г., печатание в «Отеч. зап.» «За рубежом». В двух последних главах этого произведения, написанных под непосредственным впечатлением от событий 1 марта, Салтыков уже начал разрабатывать те вопросы, которые ставила перед русским обществом политическая действительность периода начавшегося вхождения страны в новую полосу реакции, оказавшейся одной из наиболее тяжелых в жизни России.
Накануне отъезда за границу на летний отдых и лечение Салтыков глухо сообщил Н. К. Михайловскому, соредактору по журналу: «Буду высылать статьи» [339]. А уже через неделю спрашивал его из Висбадена: «Прочитали ли Вы мое письмо к тетеньке? — и продолжал, впервые раскрывая содержание и план новой работы: — Я предположил написать штук 7 или 8. Второе письмо (о лгунах и лганье) кончаю, 3-е (о вероломстве) тоже скоро напишу и пришлю для августовской книжки (будет около l½ листов). В дальнейших письмах пойдет дело о содействии общества, то есть о приглашении к содействию и проч. Но опасаюсь, что уже на 1-м письме, пожалуй, произойдет осечка, то есть вырежут» [340].
Ни первое, ни второе «письма» не вызвали, однако, замечаний цензуры и появились в «Отеч. зап.» беспрепятственно. «Осечка» с далеко идущими последствиями произошла на третьем «письме», посвященном разоблачению «Священной дружины» — тайной «добровольной организации», созданной под покровительством царского двора для охраны Александра III и борьбы с революционерами. По требованию высших властей «письмо» было вырезано из сентябрьской книжки журнала. Этим вмешательством замысел цикла был резко нарушен, и писателю пришлось перестраивать работу. Изъятие «письма» III сделало невозможным опубликование также и «письма» IV. Об этом Салтыков писал Г. З. Елисееву: «А так как приготовленная мною еще в Париже статья для октябрьской книжки была продолжением и разъяснением сентябрьского письма, то и ее я должен был похерить [341]. Вырезанное «письмо» пришлось заменить другим «письмом» III, вновь написанным, и все дальнейшие «письма» строить в зависимости от этих изменений. Получились, таким образом, как бы две «редакции» цикла: одна неоконченная, прерванная вмешательством властей — «письма» I, II, запрещенное III и продолжавшее его, оставшееся в рукописи, IV; другая, завершенная — «письма» I, II, вновь написанное взамен вырезанного III и все остальные от IV (также вновь написанного) до IX.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: