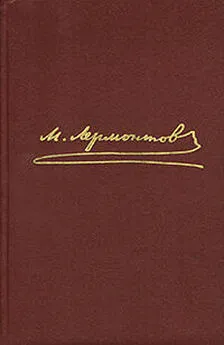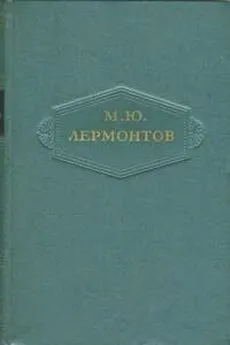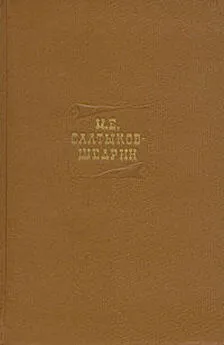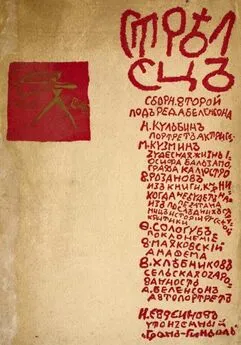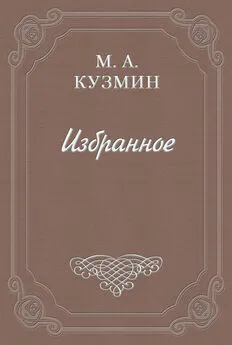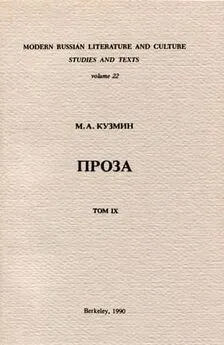Михаил Кузмин - Том 2. Проза 1912-1915
- Название:Том 2. Проза 1912-1915
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Аграф
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7784-0085-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Кузмин - Том 2. Проза 1912-1915 краткое содержание
Во втором томе трехтомного собрания прозы и эссеистики Кузмина напечатаны его вещи 1910-х годов: романы «Плавающие-путешествующие» и «Тихий страж», повесть «Покойница в доме» и циклы «Сказки» и «Военные рассказы», в России после смерти автора не переиздававшиеся.
К сожалению, часть произведений в файле отсутствует.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Проза 1912-1915 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Что вы смотрите и дивуетесь? Я обещал вашему епископу открыть небесные воды, если Дада отречется от мирских забав. Отречься можно от того лишь, что любишь, а не зная, не любя, отрекаться нечего. Не всякому дано отречение, но не горюйте, бойтесь скорей того, как бы не уподобиться людям, которые имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, имеют ноздри и не обоняют. Любите Божий мир, потому что он — Божий, и не бойтесь любить его, потому что трусов Господу не надобно! Будьте щедры и не рассчитывайте все на вершки, потому что ни аршинников, ни скряг, ни скопцов Господу не надобно! А когда придет время, у сильных Бог спросит отречения. Бог благ и милостив. Он справедлив и не наложит ига неудобоносимого, а пока ждите и любите Божий мир, славя Господа, а то впадете в гордость или в скупость сердечную.
Ангел говорил очень громко, и слова его разносились, как звук трубы, так что Дада услышала их из церкви, в которой ее забыли, и вышла на порог посмотреть, что случилось. Ангел поднимался уже по лестнице обратно на радугу. Увидав Даду, он обернулся и сказал:
— Ты, Дада, не гордая и щедрая сердцем, ты много любишь, и потому Господь тебя выбрал, а вот тебе одеяние, которое никогда не износится.
Тут он наклонился и, зачерпнув пригоршней остатки дождя, которые дрожали на радуге, плеснул в Даду. И тотчас ее платье из холщового сделалось золотым, на нем были затканы цветы, бабочки и олени, а там, куда попали мелкие брызги, засияли самоцветные камни, которые горели и переливались ярче радуги.
Где все равны
Хотя у меня сестер не было, а был только брат Дмитрий, к нам часто приходили в гости две девочки, Маша и Клаша. Отец думал, что, если с детства мы приучимся играть с девочками, мы будем не так шалить и вести себя тише. Они приходили каждое воскресенье, мы их колотили и дразнили девчонками, они ревели, ябедничали, называли нас мальчишками и исподтишка норовили сделать какую-нибудь гадость. Задирали первые обыкновенно они, а потом бежали жаловаться; нас ставили в угол, а они ходили и дразнились. Нельзя сказать, чтобы это было особенно весело; но их родители были того же мнения, как и мой отец, и посылали их к нам каждое воскресенье. И действительно, мы привыкли обращаться с Машей и Клашей: еще с субботы мы придумывали, как их изводить в воскресенье.
— Давай, как только они придут завтра, дернем их за косы.
— Или лучше намажем стул горчицей и посадим их в чистых платьях на этот стул.
Так мы сговаривались, с нетерпением ожидая прихода наших жертв.
Когда мы несколько подросли, мы, конечно, не сажали уж наших подруг на горчицу и не дергали их за косу, но от этого дело не улучшилось, потому что все время мы проводили в спорах о том, кто лучше: мужчина или женщина.
— А женщины не могут хорошо ездить верхом.
— Это все вздор, отлично умеют, а вы не умеете стряпать.
— Фу, какая ты глупая, а повара-то? Ведь когда кухарка хочет похвастаться, всегда говорит: «Кухарка за повара».
— Ну, так вы не умеете вышивать.
— А вы не можете быть гусарами.
— А вы не можете быть кормилицей.
— А Пушкин был мужчиной, что, взяла?
— А у нас есть Чарская.
— Одним словом, дрянь.
— Сам-то ты дрянь.
И каждый раз начинали с тех же самых глупостей. Когда же мы обращались к отцу за разрешением наших споров, он говорил, что, конечно, все люди равны и что если теперь это не всеми еще признается, то наступит такое время, когда женщины будут и адвокатами, и боевыми генералами, и кондукторами, а мужчины (ну, конечно, кормилицами они не будут) останутся тем же, чем и теперь. Эти ответы нас очень сердили, потому что Маша и Клаша торжествовали и показывали нам языки, мы их потихоньку поколачивали по старой памяти и отправлялись к няньке Прасковье, которая рассуждала всегда гораздо более утешительно, нежели умный папа. Мы ей поверяли наши горя, а она, почесав вязальной спицей голову, говорила:
— Чего только не выдумают. Не нами это заведено, не нами и кончится. Хоть меня возьми: хоть бы меня смолоду учили, да разве я могла бы, как акробат, по канату ходить? Ведь это как кому Бог дал и кто к чему приставлен. Ведь ты посмотри вокруг себя: тогда бы не было ни лисицы, ни зайцев, ни берез, ни сосен, ни лета, ни зимы, и все было бы на один манер. Конечно, папаша человек умный, только он сидит в своем кабинете и ничего не видит. Он, поди, сердечный, овса от пшеницы отличить не может, ни осины от березы. Опять птица: сколько их разных пород, и все для чего-нибудь нужны; да и в одной породе, хотя бы куры, одна от другой отличается: и перышки разные, и характер. Петух тебе нести яиц не станет. Как же тут их всех уравнять? А уж про людей и говорить нечего; один человек скромный, другой хулиган отчаянный, один тебе умный, а другой дурак дураком. Ну, как тут быть? Это уж как кто к чему приставлен.
Тогда нас эти рассуждения очень утешали, и мы верили им больше, чем скучным словам отца, который говорил, что нужно дать возможность и право развивать свои способности на любом поприще, без различия пола, состояния и исповедания. На отца мы сердились и хотели побить его его же собственным оружием: когда он нам давал читать книгу, мы ее не читали, а выбирали какую-нибудь самую неподходящую, уверяя, что все книги равны; за обедом ели одно сладкое, говоря, что это все равно, что есть суп. Конечно, мы были глупые мальчики, отец приходил в отчаяние и ворчал:
— Это черт знает что такое! Какие-то хулиганы растут. Наша мама улыбалась и говорила отцу:
— Ты отчасти сам виноват: дети не могут всего понимать, а чувство равенства, очевидно, не врождено людям, а благоприобретаемо, иначе оно не встречало бы такого отпора.
И нам казалось, что мать была на нашей стороне, потому что иначе зачем бы она нам рассказывала о героях и зачем бы у нее на стенке висел портрет лорда Байрона, а на этажерке стояла чугунная кукла Наполеона? Мы были ей благодарны, молча подсаживались к ней и ласкались, а она гладила нас по волосам, мечтая, вероятно, как хорошо было бы, если бы один из нас был Байроном, а другой Наполеоном, а она, наша мамочка, была бы не кондуктором и адвокатом, а «матерью великих людей», как мы читали в одной книжке. Когда мы подымали на нее свои глаза, паши взгляды встречались, и мы отлично понимали друг друга. А умный папа все продолжал рассуждать.
Один день в году мы не ссорились с нашими подругами, а, наоборот, уступали им, вели себя тихо и скромно, потому что мы наглядно убеждались, что есть место, где все, решительно все равны. Это бывало в тот день поста, когда нас всех водили причащаться. Тут мы не толкались и не щипались, не возмущались, если вперед нас забирались дети нашего швейцара и незнакомые нам девочки. Из одной и той же чаши одной и той же ложечкой один и тот же священник, у которого рука тряслась от старости, давал одинаковые кусочки просфоры, впитавшей в себя красное вино, одинаково всем: и большим и маленьким, мужчинам и женщинам, богатым и бедным, и молодым офицерам и старым нищим, и умному папе и младшему дворнику, и швейцаровым ребятишкам и нам, и милой мамочке, такой молодой в белом платье, и толстой уличной торговке. Дома мы играли чинно, боясь запачкать парадное платье и не споря с отцом, потому что видели, что и он иногда прав. Но на следующий день все шло по-старому. Опять мы дразнили Машу и Клашу, ели мороженое вместо супа и читали Ната Пинкертона вместо умных книжек. Однажды мать подозвала нас и сказала:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: