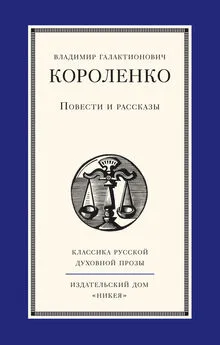Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Название:Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-280-00850-8, 5-280-00852-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика краткое содержание
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Они охотно выслушивали мои возражения. Мы как будто понимали друг друга. В мое расположение к ним они теперь верили, понимали, в чем состоит наш интеллигентский интерес к свободе и почему мы хотели бы видеть в них союзников для ее достижения. Я пытался выяснить, как в общем мы понимаем земельную реформу. Дело это трудное, требует напряжения всех государственных сил на почве свободы. В «грабижке» же мы им не союзники, и если я и адвокаты содействуем теперь их защите, то лишь потому, что возмущаемся беззаконным насилием и стеснением свободы в обсуждении и постановке земельного вопроса.
Некоторое время они еще посещали меня, приходя для разговоров. Затем я уехал в Петербург, потом переменил квартиру, и мы потеряли друг друга из виду…
XI. Разговор с Толстым. Максимализм и государственность
В том же 1902 году мне пришлось побывать в Крыму, и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писателя и оба врача, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении.
Чувствую, что мне будет нелегко сделать последующее вполне понятным для моих читателей из народа. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства.
Сам великий художник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки, он лично, как человек, легко заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением.
Это вообще наша черта, черта интеллигентных людей. Жизнь намеревается сделать из нас по окончании образования помещиков, или чиновников, или инженеров, вообще людей, служащих известному строю. Но самый этот строй стоит в слишком разительном противоречии с тем, что порождает в душах честная и просвещенная мысль. От этого у нас сын помещика нередко отрицает право частной собственности на землю, а сын чиновника презирает и ненавидит чиновничество. Отсюда же постоянный разлад между мыслью и жизнью. Мысль — это начало действия, и она влечет молодежь в одну сторону, а жизнь и практические требования выгоды — в другую. В большинстве случаев жизнь берет свое, и, пройдя бурный период молодых увлечений, большинство образованных молодых людей вступает на торную дорогу и понемногу свыкается с ней. Но в душе, как лучшие воспоминания, навсегда остается след молодых, наивных, полных неопытности, но светлых и бескорыстных неклассовых «ошибок юности».
Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди сознанной неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — это все люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе, цельном и без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого вся жизнь была тоска о непосредственности.
Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неустройства, все приписывал судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до такой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроением простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдатика Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же нужно сказать об Акиме в «Власти тьмы», который не может вылущить своей мысли из корявой оболочки: «тае, тае», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.
Эта способность заражаться народными настроениями определила крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю Отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийство партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера, и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротивлении. Нельзя противиться злу насилием, хотя бы даже дикари зулусы начали убивать и резать нас, насиловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны этой великой души, тоскующей о правде жизни. В нем, несомненно, зарождалось опять новое. Чехов и Блпатьевский рассказывали мне между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их голову. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно, в свою очередь, начинало заражать Толстого. Чехов и Блпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:
— И, наверное, опять промахнулся.
Я привез много свежих известий. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал между прочим отзыв одного встреченного мною сектанта — простого человека:
— Оно, конечно, убивать грех… Но и осуждать этого человека мы не можем.
— Почему же это? — спросил я.
— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном конверте?
— Ну так что же?
— А мы не можем знать, что в ней написано… Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замолишь этой обиды. Нет, уже, видно, не нам судить: Бог их рассудит.
Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал:
— Да, это правда… Я вот тоже понимаю, что как будто и есть за что осудить террористов… Ну, вы мои взгляды знаете… И все-таки…
Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал, задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: