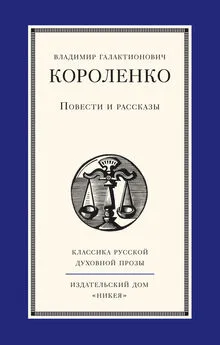Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Название:Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-280-00850-8, 5-280-00852-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика краткое содержание
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
…чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться страстям и мечтам.
«Чертовски талантливая натура, — пишет о нем Дедов в своем дневнике. — Но я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь серьезное, хотя все молодые художники — его поклонники… Пишет лапти, онучи, полушубки, как будто мы не довольно насмотрелись на них в натуре…» «Иногда засядет и в месяц окончит картину, о которой все кричат, как о чуде, а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает…» Дедов отмечает, что его товарищ принадлежит к числу «странных людей», не могущих найти полного удовлетворения в искусстве и не признающих его самодовлеющего значения. Рябинин, в свою очередь, удивляется художественному самодовольству пейзажиста Дедова, не задающегося никакими вопросами о значении своей работы.
Этим примитивным приемом — параллельная смена двух дневников — Гаршин рисует полярные взгляды на искусство, разделявшие и художников, и мыслящее общество его времени. Но художественный центр тяжести не в этом споре. Вся драма сосредоточена на истории картины, которую пишет Рябинин. Называется она «Глухарь» и изображает рабочего-заклепщика, роль которого — поддерживать грудью и руками молот с внутренней стороны котла, когда снаружи тяжелыми ударами расплющивают заклепку.
Известна история этого замысла. Гаршин был дружен с покойным художником-передвижником Н. А. Ярошенко. В «Сборнике в память Гаршина» напечатан снимок картины Ярошенко «Кочегар». Сильный, мускулистый человек, с огромными руками и впалой грудью, стоит у самой топки, весь облитый пламенем, спокойно, чуть жмурясь. На лице его нет мысли, во всей фигуре — та закаленность тела, которая дается за счет поглощения высших процессов духа. Много и разных мыслей вызывает этот кочегар. Одна из них: условия такой работы постепенно убивают даже таких богатырей, а более слабых губят неизбежно и быстро.
На Гаршина картина произвела сильное впечатление. Его чуткое воображение, пройдя через разные ассоциации образов, остановилось на «Глухаре».
«Работа совершенно измучила меня, — пишет Рябинин в своем дневнике, — хотя идет успешно. Следовало бы сказать: не хотя, а тем более, что идет успешно… Вот он сидит передо мною в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий через круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на всклокоченной и закопченной бороде, на жилистых, надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди [129]. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного Глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в невероятной позе…»
«Иногда, — продолжает Рябинин, — я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею: ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучает. Это — не написанная картина, это — созревшая болезнь. Чем она разрешится — не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего будет писать».
Этого «Глухаря» показал Рябинину Дедов (он — бывший инженер), как Гаршину показал своего кочегаpa Ярошенко (тоже бывший военный инженер). Конечно, Дедов мог объяснить Рябинину, что «положение глухаря не так уже ужасно. Что за эту работу платят на полтинник в день дороже, поэтому на нее есть много охотников, что удары по груди облегчаются такими-то приемами, хотя… конечно…» Но Рябинины — Гаршины плохо воспринимали эти смягчения. Они брали лишь конечные последствия, обнажая их от всех реалистических компромиссов. Картина для Рябинина становится «созревшей болезнью». Ужас ее в проклятом вопросе: что же даст сама она миру «глухарей» и как на него воздействует?
Рябинин решает этот вопрос отрицательно: никак не воздействует, и, значит, возможность для него, художника Рябинина, «погружаться в искусства, в науки, предаваться страстям и мечтам» за счет этого Глухаря остается неоправданной. Рябинин бросает художество и уходит в учителя. «Но и там он не преуспел», — прибавляет автор уже от себя.
«Художники» являются, быть может, одним из самых субъективных произведений Гаршина. Как и Рябинина, его мучили проклятые вопросы о правде человеческих отношений, и каждый его рассказ был тоже «созревшей болезнью». Как и Рябинин, Гаршин в конце концов не находил решения… И вот от времени до времени в его работе пробиваются все более пессимистические ноты…
То время (конец 70-х годов) было крайне неблагополучно для философского пессимизма. Мыслящие круги общества были охвачены возраставшим приливом деятельного настроения борьбы и надежды. Решение «проклятых вопросов» казалось (до наивности) легким и близким. А так как все же борьба была трудна, то общество инстинктивно чувствовало потребность в ободряющем и энергичном настроении. За эти ноты оно часто прощало очевидную нехудожественность самых образов и не хотело воспринимать пессимистических мотивов даже в истинно художественном воспроизведении. Большинство своих рассказов Гаршин отдавал в «Отечественные записки». «Attalea princeps» появилась в другом журнале, и говорили, что Щедрин не захотел напечатать ее именно потому, что она «наводит уныние». На фоне общего оптимизма и надежд рассказ этот действительно звучит пророчеством Кассандры. Читателям, конечно, памятна эта маленькая, но полная грустной прелести картинка. Прекрасная пальма рвется кверху, чтобы разрушить стеклянную крышу теплицы и вырваться на волю. Она призывает соседние растения к дружным усилиям, но тепличная братия отказывается понимать ее. Тогда она предпринимает гордую, одинокую борьбу. Железные прутья рам впиваются в нежные молодые листья, ранят и уродуют их, но молодое дерево упрямо продолжает расти и наконец побеждает. «Лопнула толстая железная полоса, посыпались осколки стекла». Над стеклянным сводом гордо выпрямилась зеленая корона пальмы на вольном просторе. Цель достигнута, но радости нет. «Была глубокая осень. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи… Attalea поняла, что для нее все кончено. Она замерзала».
Рассказ написан весною 1879 года. В нем звучит печальное предчувствие, но еще нет последних выводов законченного пессимизма. Гаршин не говорит: «таков удел прекрасного на свете», таковы неизбежные вечные законы, карающие всякие порывы к свету и свободе. Он говорит только: «так бывает» с прекрасными экзотическими растениями в суровых условиях. Та же пальма могла бы расти у себя на родине. И, умирая, она видит сквозь пелену дождя и снега купы елей и сосен, стоящих в своем ненарядном уборе на том самом холоде, который ее убивает…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: