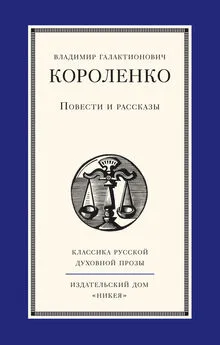Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Название:Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-280-00850-8, 5-280-00852-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика краткое содержание
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То же можно сказать и относительно некоторых предметов более тонкого свойства. Истинное достоинство личности, ее «честь», как и ее здоровье, составляет лишь общий тон поступков и действий, от всей совокупности которых на вас веет особым тонким ароматом нормального душевного строя, который составляет лишь фон поведения личности. И только в тех случаях, когда внешние, случайные и во всяком случае экстраординарные обстоятельства этого потребуют, — твердо сложившееся личное достоинство человека, его честь скажется в поведении просто, непринужденно и твердо. При этом первый признак такого истинного личного достоинства — спокойное уважение его и других. Когда же, наоборот, вы встречаете субъекта, который постоянно говорит о «своей чести», носит ее перед собой, как некий ковчег, в котором заключено что-то драгоценное, но для него внешнее, и при этом выражает постоянную готовность не только поддержать свою честь против предполагаемых оскорблений, но еще во имя своей чести — оскорбить и растоптать чужую, — вы сразу определяете, что именно личное достоинство у такого субъекта отсутствует. Это «не джентльмен»! — говорят о таких господах англичане, а в наиболее резких проявлениях это уже дикое, некультурное и разнузданное бретерство.
То же можно было бы сказать о добродетели, которая у истинно добродетельных людей гнездится лишь в сердце, проникая все их поступки, но не сходит с языка у Тартюфов, — и обо многих других душевных и нравственных свойствах. На этот раз, однако, я хочу применить это маленькое наблюдение к патриотизму…
Что такое русский человек? Национальность наша есть факт, так сказать, первичный, сопровождающий нас от рождения и налагающий на нас свой отпечаток, естественно, неизбежно и непосредственно. Мы русские потому, что родились в России, дышали с рождения ее воздухом, глядели на ее убогую, грустную, но порой и прекрасную природу, выражали свои чувства звуками ее речи, первую свою любовь, и свой первый гнев, и все другие ощущения отдали русским же людям. Это факт, который, конечно, не может не сказаться в нашем душевном строе и во всем поведении. Он не должен мешать нам видеть свои недостатки и чужие достоинства, но он залегает в глубине души каким-то узелком ощущений, вследствие которых наши недостатки нам ближе и больнее, а наши достоинства, когда они проявляются в действии, — тоже ближе и приятнее. И все вместе — достоинства и недостатки — чувствуются нами непосредственнее и интенсивнее, чем свойства других народов… Но это не должно заставлять нас любить и прославлять недостатки лишь потому, что они наши, и отрицать чужие достоинства, потому что они чужие… И прежде всего человек, у которого в душе есть истинное ощущение национального достоинства, — не станет выпячивать его в ущерб другим, так же, как не станет выпячивать своей, никем еще не затрагиваемой «чести».
Но есть просто русские люди, то есть прежде всего люди мыслящие, рассуждающие о добре и зле, о человечном и бесчеловечном, об истине и лжи, и все эти высшие определения, приурочивающие неизбежно и непосредственно к родной среде и родному краю… И есть ультрарусские, сугубо русские, «истинно-рррусские» патриоты, которые носят ковчег своего патриотизма, как бретер носит ковчег своей чести, — тенденциозно, нарочито озираясь на соседей, толкаясь и вызывая… Этот вид выпяченного, гипертрофированного и нездорового патриотизма называется в последнее время «национализмом» в его особом современном значении. Национализм, как известно, особенно сильно и не особенно для себя выгодно нашумел в последние годы во Франции, выдвинув господ Эстергази и Гонзов, Буадефров и Анри Режисов и Геренов и многих им подобных… Сказывается он и в других странах с большим или меньшим треском и, к сожалению, дает себя чувствовать у нас вообще — ив частности проявляется все с большею силой в последние годы. Nous sommes les frrrancais! [19]— демонстративно и громогласно восклицает французский националист и, констатируя этот никем не оспариваемый факт, тотчас же опять прибавляет: mort aux juifs! [20]«Мы рррусские люди» (или еще лучше — рррусаки), — говорят наши националисты и тотчас же опять прибавляют: «Долой жидов, долой немцев, долой поляков» и т. д., и т. д. А так как, разумеется, первого утверждения никто не опровергает, то, по самой логике вещей, вся суть явления, его центр тяжести переходит во вторую половину формулы. Таким образом, реальное содержание национализма сводится на «отрицание» других национальностей. Национализм обращает непосредственный патриотизм в патриотизм бретерствующий, наступающий на других, «воинствующий», оскорбляющий…
Само собой разумеется, что та формула патриотизма, которую мы привели выше, заставляющая, между прочим, особенно сильно чувствовать отрицательные свойства нашей жизни именно потому, что они наши, — что ими болеют и от них страдают именно и прежде всего люди нам наиболее близкие, — не может удовлетворить «националиста». Бретерствующий патриотизм не может признать своих недостатков, и опять по логике вещей очень скоро все особенности нашей жизни, уже потому, что они наши, признаются добродетелями, а чужие отличия — обращаются сплошь в пороки… Когда этот процесс совершился — национализм готов, а патриотизм?.. С патриотизмом тогда неладно, совершенно так же, как неладно с здоровьем человека, который слишком много говорит о своем желудке, или с честью субъекта, который носится с нею, как с писаной торбой, всегда готовый растоптать честь своего ближнего во имя якобы своей чести…
Явление это у нас далеко не новое. Оно родилось вместе с поговоркой «шапками закидаем» и потом переживало различные стадии. От кичливого и самонадеянного оно переходило (в эпоху реформ) к настроению унылому и жалующемуся, а впоследствии все более и более подымало голову. Интересно, между прочим, что почти всюду оно сопровождается большей или меньшей склонностию к ретроградству. Как известно, Катков был либералом и даже конституционалистом в первом периоде своей литературно-общественной карьеры. Начало реформ он приветствовал самым горячим образом, и впоследствии в его собственных статьях противники почерпали сильные аргументы против его мракобесных нападок на все новшества, двинувшие вперед русскую жизнь. Этот поворот Каткова, быстрый и решительный, — совершился именно на почве болезненно задетого национализма. И разумеется, это не потому, чтобы новые формы жизни не уживались с истинным патриотизмом. Кто решился бы упрекнуть в отсутствии патриотизма Ланских, Ростовцевых, Милютиных, отдавших свои силы наиболее патриотическому делу — обновлению своей родины, еще рабской и полной, по выражению Аксакова, «черной неправды» и «всякой мерзости». Несомненно, однако, что движение вперед, прогресс и общественное совершенствование всюду становятся в более или менее острые конфликты с воинствующим национализмом наших дней. Во Франции он спаялся с католической реакцией, с аспирациями умершего легитимизма или авантюрами бонапартизма. У нас из рук мечтательного и далеко не во всем обскурантного славянофильства — он перешел к литературным партиям совсем иного склада, начиная с Каткова…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: