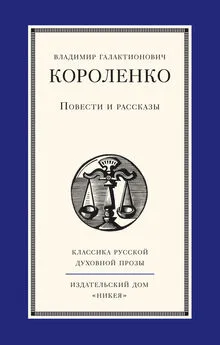Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Название:Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1990
- Город:Ленинград
- ISBN:5-280-00850-8, 5-280-00852-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Короленко - Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика краткое содержание
В том включены рассказы 1903–1915 гг. «С двух сторон», «Братья Мендель» и др., публицистические работы «Несколько мыслей о национализме», «Легенда о царе и декабристе», «Земли! Земли!», «Письма к Луначарскому» и др., большинство из которых впервые публикуются в советское время в составе собрания сочинений, а также статьи и воспоминания о писателях.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Рассказы 1903-1915. Публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первым антихристом был объявлен Л. Н. Толстой, устроивший на собранные деньги много столовых. По этому поводу много злорадствовали в «Гражданине» и «Московских ведомостях».
В той же книжке «В голодный год» мне приходилось описывать, как и меня лично встречали во многих местах робкими вздохами и упоминанием имени Христова, с ожиданием, что я от этого рассыплюсь прахом… И теперь, когда я вспоминаю об этом темном вечере с белыми снегами под туманом, об этой встрече с получателями «прокламаций», то мне кажется, точно в те годы вся русская земля была под глубокими, не тающими и никогда не растающими снегами, под кровом безрассветной ночи общего невежества… Где-то стонут… Где-то кто-то кричит, стараясь разыскать дорогу… Откуда-то неясно откликаются… И голоса замирают в темноте… И опять все безмолвно, темно и глухо.
Поздним вечером я приехал в село. А долго спустя после меня пришли мужики с «прокламацией» к становому, усталые, голодные и покорные.
II. История одной подпольной прокламации
Вскоре была обнаружена организация, рассылавшая по уезду эти прокламации «мужицких доброхотов». Был арестован в Москве Николай Михайлович Астырев и его знакомые, в том числе уроженец Нижегородской губернии, города Арзамаса, Жевайкин.
Я знал обоих.
Николай Михайлович Астырев, уроженец Новгородской губернии, студент Института инженеров путей сообщения, открывавшего виды на выгодную карьеру, бросил институт и пошел на службу в волостные писаря, чтобы ознакомиться с народной жизнью. Он напечатал в «Вестнике Европы» ряд очерков, обративших общее внимание и вышедших затем отдельной книгой под заглавием «В волостных писарях». Книга сразу доставила автору литературное имя правдивостью и талантливостью. В ней чувствовалось то, что тогда одушевляло многих интеллигентных людей: честное искание путей для ознакомления с народом и прямого служения ему.
Астырев после этого работал в статистике, куда шло много людей, одушевленных такими же намерениями, сначала в Москве, затем он заведовал статистическим бюро в Иркутске. Сибирь дала ему материал для новой книги: «На таежных прогалинах», где опять есть много наблюдательности и правды.
Я удивился, узнав, что прокламация «доброхотов» написана Астыревым. Но это было, несомненно, так. После десятилетнего затишья, которое последовало за террористическим убийством Александра II, к началу 90-х годов стало вновь оживать революционное настроение в центрах и провинции. Существовало мнение, что и народ готов уже сделать те же выводы о непригодности всей правительственной системы, какие давно сделала интеллигенция. Вспоминаю один эпизод. Ко мне в Лукоянов явился из Нижнего Новгорода молодой адвокат Н. Н. Фрелих (впоследствии сосланный в Сибирь). Он привез из Нижнего деньги, собранные в пользу голодающих среди адвокатов. И первые его слова, когда он вошел ко мне, были:
— Ну что, Владимир Галактионович, скоро здесь начнется революция?
Я только засмеялся. Я видел придавленное настроение темного и голодного народа, и меня удивляло впоследствии, что и Астырев, бывший волостной писарь, так трезво и правдиво описывавший народный быт, не догадался, что его прокламация вызовет в темной среде одну только «склоку» и досаду.
В это время возникла организация, назвавшаяся «группой народной воли», к которой примкнул и Астырев. Он задумал связать движение, возрождавшееся среди городской интеллигенции и рабочих, с движением в народе, и с этой целью он предложил кружку написать ряд писем к крестьянам, он успел написать только первое письмо, в котором простым и понятным языком объяснял крестьянам, что им нечего ждать от правительства, которое довело Россию до страшного голода, а следует искать связи с теми, кто думает о положении народа помимо правительства, — крестьянам надо входить в сношения с городскими рабочими и интеллигенцией. Астырев хотел вызвать доверие и интерес среди голодающего крестьянства к этим «мужицким доброхотам» и к их движению.
Мы видели, какое своеобразное «движение» в полицейские станы вызвала эта прокламация в Лукояновском уезде. Голодные, изнуренные мужики тащили «грамотки» к приставам, не добром поминая своих «доброхотов». А в это же время в городах происходили свои трагедии: организация быстро провалилась. Пошли аресты. Был арестован и Астырев. Он был болен сердечной болезнью. Уже при первом знакомстве меня поразило его бледное лицо с нервным румянцем. Из тюрьмы он вышел до такой степени слабым, что не мог поднять руки, чтобы поздороваться с навещавшими его знакомыми. Только большие глаза горели мыслью и до последних дней появлялись его статьи в «Русских ведомостях».
3 июня 1894 года он умер в лечебнице для хронических больных профессора Кожевникова. В газетах появились теплые некрологи. А там, в глухих деревнях Лукояновского уезда, никто даже не знал, кто такой Астырев и за что он умер.
У Астырева осталась жена и двое или трое детей без всяких средств к жизни.
У арестованного вместе с Астыревым Жевайкина жена тоже осталась без средств, вдобавок двое детей умерли от дифтерита. Я видел эту бедную женщину. Молодая и красивая до того времени — она на глазах хирела и старилась. Мужа на время отпустили, потом взяли опять и посадили в ту же тюрьму (называвшуюся «Кресты»), Осиротевшая жена уехала в Сибирь для работы по переселенческому делу. В начале июня 1894 года, около того времени, когда умер Астырев, в Нижний Новгород пришла телеграмма: «Известите родных, Мария Ивановна (Жевайкина) умерла». Об этом приходилось известить в тюрьме горячо любившего ее мужа… Я его после этого не видел.
Это только одна из бесчисленных историй того времени, когда русская интеллигенция трудно, часто неумело и напрасно искала путей для проникновения в народ со своей мыслью…
А деревня жила своей стихийной жизнью, и эти две струи, казалось, не могут слиться в одну. На одной стороне была мысль, оторванная от жизненного дела, питающаяся иллюзиями… На другой — жизнь без мысли, полная лишений и страданий, накопляющая темную, беспросветную вражду… Даже случаи простейшего общения между интеллигенцией и деревней на благотворительной почве встречали, с одной стороны, давление и преследование, с другой — порождали недоумение и догадки об антихристе.
Деревня целиком была тогда во власти фантастической самодержавной сказки.
III. Легенда о царской милости
В журнале «Русское богатство» в марте 1899 года была напечатана очень интересная статья, озаглавленная «Переселенец о Сибири». Статья эта была прислана из Каннского округа Томской губернии и писана крестьянином. Автор ее, Иван Ефимович Беляков, человек хорошо грамотный и очень толковый. То, что он рассказывает своеобразным языком умного самоучки, тем любопытнее, что статья изображает взгляды не одной только темной крестьянской среды, но и более развитой части крестьянства того сравнительно недавнего времени.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: