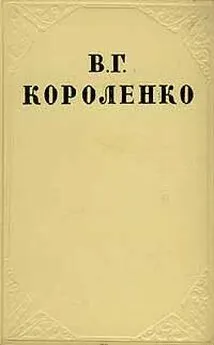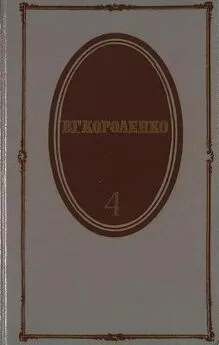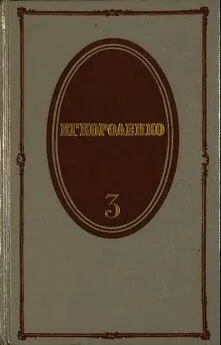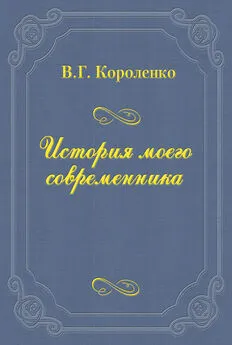Владимир Короленко - Том 5. История моего современника. Книга 1
- Название:Том 5. История моего современника. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1954
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Короленко - Том 5. История моего современника. Книга 1 краткое содержание
Пятый том составляет первая книга «Истории моего современника».
«История моего современника» — крупнейшее произведение В. Г. Короленко, над которым он работал с 1905 по 1921 год. Писалось оно со значительными перерывами и осталось незавершенным, так как каждый раз те или иные политические события отвлекали Короленко от этого труда.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 5. История моего современника. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Кто такой? — спросил он несколько скрипучим высоким тенором. — А, новый? Как фамилия? Сма-а-атри ты у меня!
И, погрозив за что-то пальцем, он пошел прочь смешной ковыляющей походкой. Маленькая фигурка скоро исчезла за зеленью могил.
И как только он скрылся, из-за ближайшего склепа выбежали три гимназиста.
— Что он тебе говорил? — спросил один из них, Кроль, с которым я уже был знаком. Двое других тотчас же кинулись к плите и, в свою очередь, принялись что-то скоблить на камне. Когда они кончили и встали с довольным видом, я с любопытством посмотрел на их работу. На плите после традиционных трех букв D.О.М. [15] Deo Optimo Maximo — во славу величайшего и высшего бога (лат.). — Ред.
стояло уменьшительное имя с фамилией (вроде Ясь Янкевич), затем год рождения и смерти. Вверху, выцарапанные в глубокой борозде гвоздями и ножиками, виднелись два польских слова: ofiara srogosci (жертва строгости).
Мои новые товарищи рассказали мне историю этой надписи.
Это было несколько лет назад. Ученика младших классов Янкевича «преследовало» гимназическое начальство, и однажды его оставили в карцере «за невнимание на уроке». Мальчик говорил, что он болен, отпрашивался домой, но ему не поверили.
Карцер помещался во втором этаже, в самом отдаленном углу здания. К нему вел отдельный небольшой коридорчик, дверь которого запиралась еще особо.
Впоследствии мне пришлось свести знакомство с этим помещением, и каждый раз, как сторож, побрякав ключами, удалялся и его шаги замирали в гулком длинном коридоре, я вспоминал Янкевича и представлял себе, как ему, вероятно, было страшно, больному, в этом одиночестве. Вот стукнула далеко внизу выходная дверь на блоке, по коридорам пробежали, толкаясь в углах, тревожные и чуткие отголоски. Все замерло. За маленьким высоким оконцем шумят каштаны густого сада, в сырых, холодных углах таится и густеет мгла ранних сумерек…
Когда сторож пришел вечером, чтобы освободить заключенного, он нашел его в беспамятстве, свернувшегося комочком у самой двери. Сторож поднял тревогу, привел гимназическое начальство, мальчика свезли на квартиру, вызвали мать… Но Янкевич никого не узнавал, метался в бреду, пугался, кричал, прятался от кого-то и умер, не приходя в сознание…
Теперь в гимназии не было уже ни виновников этой смерти, ни товарищей жертвы. Но гимназическая легенда переходила от поколения к поколению, и ученики считали своею обязанностью подновлять надпись на могильном камне. Это было тем интереснее, что надзиратель Дитяткевич, в просторечии называвшийся Дидонусом, считал своею обязанностью от времени до времени выскабливать крамольные слова. Таким образом, борозда утопала все глубже, но надпись все оживала, сохраняя память о чьей-то начальственной «строгости» и об ее «жертве»…
Таково было первое впечатление, каким встречала меня «Ровенская реальная гимназия»…
XX. Желто-красный попугай
И теперь еще, хотя целые десятилетия отделяют меня от того времени, — я по временам вижу себя во сне гимназистом ровенской гимназии… Особенным звуком звенит в моих ушах частый колокол, и я знаю: это старик сторож из кантонистов подошел к углу гимназического здания, где на двух высоких столбах укреплен качающийся колокол, и дергает за длинную веревку. Звон, настойчивый, торопливый, как будто захлебывающийся, перелетает через гладь прудов, забирается в ученические квартиры. Частый топот ног по деревянным мосткам, визг и стук калитки на блоке с несколькими камнями… Топот усиливается, как прилив, потом становится реже, проходит огромный инспектор, Степан Яковлевич Рущевич, на дворе все стихает, только я все еще бегу по двору или вхожу в опустевшие коридоры с неприятным сознанием, что я уже опоздал и что Степан Яковлевич смотрит на меня тяжелым взглядом с высоты своего огромного роста.
Порой снится мне также, что я сижу на скамье и жду экзамена или вызова к доске для ответа. При этом меня томит привычное сознание какой-то неготовности и риска…
Так прочны эти впечатления. И не мудрено. В ровенской гимназии я пробыл пять лет и два года в житомирской. Считая в году по двести пятьдесят дней, проведенных в классах или церкви, и по четыре-пять учебных часов ежедневно, — это составит около восьми тысяч часов, в течение которых вместе со мною сотни молодых голов и юных душ находились в непосредственной власти десятков педагогов. Затихшее здание гимназии в эти часы представляется мне теперь чем-то вроде огромного резонатора, в котором педагогический хор настраивает на известный лад умы и души сотен будущих людей. И мне хочется, хотя бы в самых общих чертах, определить теперь основные ноты, преобладавшие в этом хоре.
Еще в Житомире, когда я был во втором классе, был у нас учитель рисования, старый поляк Собкевич. Говорил он всегда по-польски или по-украински, фанатически любил свой предмет и считал его первой основой образования. Однажды, рассердившись за что-то на весь класс, он схватил с кафедры свой портфель, поднял его высоко над головой и изо всей силы швырнул на пол. С сверкающими глазами, с гривой седых волос над головой, весь охваченный гневом, он был похож на Моисея, разбивающего скрижали.
— Иблопы! Бараны! Ослы! — кричал он по-польски. — Что значат все ваши граматыки и арытметыки, если вы не понимаете красоты человеческого глаза!..
Может быть, это было грубо и смешно, но мы не смеялись. От могучей фигуры старого художника над толпой неосмысленных малышей пронеслось, как вихрь, одушевление фанатической веры в свой предмет, в высшее значение искусства… Когда он подходил к рисующему ученику и, водя большим пальцем над бумагой, говорил: «Ага! Вот так… Чувствуешь, малый? Оно вот тут округляется. Вот-вот… Теперь сильнее, гуще!.. Ага! Видишь: засветилось, глядит!..» — то казалось, что под этими его жестами на самой бумаге начинают роиться живые формы, которые стоит только схватить…
Другая фигура, тоже еще в Житомире. Это священник Овсянкин… Он весь белый, как молоко, с прекрасными синими глазами. В этих глазах постоянно светилось выражение какого-то доброго беспокойства. И когда порой, во время ответа, он так глядел в мои глаза, то мне казалось, что он чего-то ищет во мне с ласковой тревогой, чего-то нужного и важного для меня и для него самого.
Однажды он задумал устроить для своих учеников говение особо от остальных молящихся.
Для этого он наскоро сладил ученический хор под руководством двух учеников из поповичей и сам служил для нас после общей службы. Нам это нравилось. Церковь была в нашем нераздельном владении, в ней было как-то особенно уютно, хорошо и тихо. Ни надзирателей, ни надзора не было.
Но… попав в эту обстановку после годичной муштровки — ученики распустились. Всех охватила какая-то резвость, особенно во время спевок, на которых не бывало и священника. После одной такой спевки настроение перелилось через край, и за вечерней хор пропел «отцу и сыну и святому духу» с кощунственным изменением («брюху»). В сущности, настоящего, сознательного кощунства тут не было, а была только инерция резвости. Мальчишки шутили скорее над добрым священником, чем над представлением о боге. По окончании службы причетник сказал, что батюшка просит всех остаться. Мы сгрудились около левого клироса. В слабо освещенной старой церкви стало как-то торжественно-тихо и печально. Через минуту Овсянкин вышел из алтаря серьёзный и как бы виновный. Подойдя к нам, он начал говорить:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: