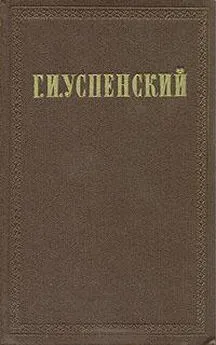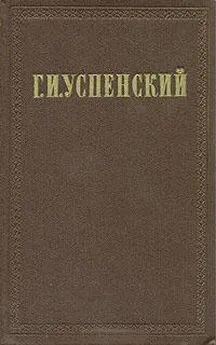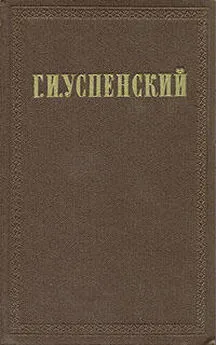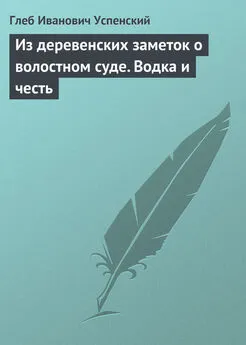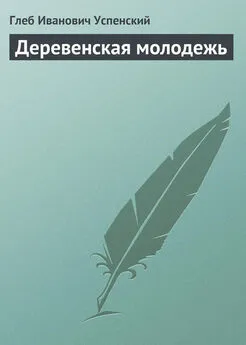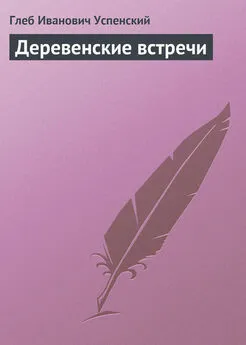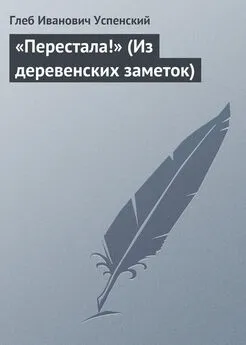Глеб Успенский - Из деревенского дневника
- Название:Из деревенского дневника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1956
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Глеб Успенский - Из деревенского дневника краткое содержание
В настоящее издание включены все основные художественные и публицистические циклы произведений Г. И. Успенского, а также большинство отдельных очерков и рассказов писателя.
Из деревенского дневника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Нет, не знаю…
— Так вот что я об нем скажу: мужик этот человек работящий, одно слово — человек правильный, ну только что больно тих, значит, попорчен… И что же ним отец родной делает? Посылает его милостыню собирать по праздникам… Этого-то человека! Да он и без чужого хлеба своего бы добывал в полных размерах, ежели бы был посурьезнее, а то ну-ко — с сумкой по деревне шатается… Смотреть-то, я вам доложу, стыд чистый… А почему? Главная причина — нельзя родительского благословения забывать; надобно родителей почитать… Положим, так сказать, каков родитель. Иного родителя, надо прямо говорить, и слушать бы незачем; вот хоть бы Емелькина отца, судите сами: разленился старикашка, ни на что не похоже… Вдовый он, и один, у него сын Емелька. Покуда сын-то подрастал, ничего: был человек, бился по-христиански, один сам собой все хозяйство правил; а как вырос Емелька, как женил его — лег на печь, «не мое, мол, дело», и зачал канальский старик сластить…
— То есть как же так?
— Следовательно, то есть, вот каким манером. Примерно надо бы ему на работу идти, в поле, а он, старый хрыч, с удочками на речку, да целый день и сидит на речке… Наловит рыбы — этого у него, у старого хрыча, и звания нет, чтобы продать или что-нибудь для дому, — куда! все сам съест! Вот это самое и есть, что я вам сказал: — себе сластит… Ну а где уж одному женатому с семьей справиться?.. Чем бы с печки-то слезть да помочь сыну, а он ему — «иди, говорит, по миру, собирай!..» Ну и идет… потому родительское слово свято… Не послухай его, «прокляну», скажет; ну а ведь это, уж сами судите, довольно будет вредно нашему брату… Так-то вот.
Это я к тому говорю, — продолжал рассказчик, — что вот и Федюшкин-то вотчим из послушных был… Против родителя не осмеливался… Да и мать-то Федюшкина тоже… то есть куда ж, позвольте спросить, деться ей с этакой, например, прикупкой? Хорошо еще самоё-то берут, не бросают, и то еще надо дорожить, что нашелся добрый человек… Вот мать-то и отдала Федюшку к тетке: была у ней старушка-тетка… бездетная… Отдать-то отдала, да не дал ей господь веку — через два года и померла. Остался Федюшка сиротой. Покуда жива была тетка, ну кое-как да кое-как перебивался, рос… а эдак с седьмого или восьмого года и побираться стал… Ну уж тут, конечно, житье не легкое: дадут шапку — в шапке пойдешь, не дадут — гуляй без шапки… Хорошо, коли ночевать пустят, — ну ночуешь, а как не случится где приткнуться — и так где-нибудь, на вольном воздухе ночь скоротаешь… Ну, однакож надо сказать прямо, у нас этого нет, чтобы прочь гнать, и пожалуй что без ночлегу Федюшке жить не приходилось. Вот через это самое, как я полагаю, он и избаловался: сегодня здесь ночует, завтра там, поутру проснулся, ушел, никто не смотрит, не видит, всякий идет по своему делу… вот от этого-то самого и повадился наш молодец побаловываться. Там, изволите видеть, чулки, например, сухонькие наденет, там рукавички оставит, которые похуже, а которые потеплее — себе возьмет. Таким манером постепенно… Стали замечать. Допрашивать иной раз принимались, да на беду мальчонка-то был боек, востер — всё ему спускали…
— Ты, мол, Федька, рукавицы мои обменил?
— Я, — говорит.
— Как же так, шельмецкий ты сын? Это не порядок… За это, знаешь?
— А холодно, — говорит, — дяденька!..
Потреплешь его за вихор, и будет: что с него возьмешь? — сирота!
Таким манером и приучился мальчонка побаловываться… Пробовал было он в подпаски наниматься, да недолго нажил… Не понравилось, видно, по ночам не спать, сбежал…
На моей памяти и дело-то это было. Ехал я в город за кладью — кладь мы возили к одному барину в имение… — Еду так-то, гляжу — Федор. Армячишко на нем длинный-предлинный, босиком, шапка эва — какая, гора Голгофа настоящая, с перьями, генеральская, и палка. Дует парень по грязи, ножонками-то своими молотит во всю, то есть, мочь.
— Куда, мол?
— В город, — говорит, — подвези, мол, меня, дяденька…
— Ай ты от пастуха-то сбег?
Посадил его.
— Сбег, — говорит.
— Что так?
— Больно худая жизнь, — говорит. — Бьет пастух-то. Лют.
— Куда ж ты это в город бежишь?
— А в сиротское, — говорит, — призрение.
— Это что ж такое сиротское призрение? Что-то, — говорю, — будто не слыхал я этакого призрения-то… Что ж оно такое?
— А это, — говорит, — здание… большое-пребольшое, и всё сироты в нем… двадцать тысяч сирот, безродных, без отца, без матери. Царь сделал. И всех кормят на царский счет, и у каждого свой сундук, и одежда каждому идет от царя. А по двадцатому году всех сирот женят, и идут они в царские крестьяне… И земли дают тем крестьянам, и дома, и скотину; одно слово — живи не тужи.
— Это, — говорю, — хорошо, ежели правда.
— Это, — говорит, — верно: мне. верные люди сказывали…
— Ну коли верно, дай, мол, бог тебе счастья… Только что, — говорю, — навряд, например…
— Нет, — говорит, — это верно…
— Может, — говорю, — местов нет?..
— Ну вот — нет! Это вот какой домино — с версту. — И почал он мне опять расписывать, расхваливать.
— Ладно, ладно, — говорю, — ступай с богом.
Привез я его в город; мне, стало быть, на станции оставаться, а ему в это самое здание бежать. Побег. Хватился я после — одного мешка нету! «Ах, думаю, шельмец этакой, как ловко стянул, и не в примету даже». Ну, думаю, господь с ним…
Так он и пропал, невесть куда. И забыли было о нем. Только через полгода этак места приходит ко мне наш писарь:
— Запрягай, — говорит, — Родион, лошадь: в волость требуют по делу. — А в то время, надо сказать, состоял я в правленских ямщиках.
— Какие, — говорю, — дела там у вас?
— Требуют, — бает, — личность удостоверять… Обозначилось, например, лицо, и что оно есть за лицо такое— никому неизвестно.
— Ладно!
Поехали. Приезжаем, глядь, на крыльце Федька трется.
— Уж не ты ли, — говорю, — Федор, личность-то самая есть?
— Я, — говорит…
— Ах ты, — говорю, — шут гороховый.
И писарь-то тоже смеялся: все был мальчонка, а тут эва что — личность!
— Ты, — говорю, — как же это, личность ты этакая, мешок-то у меня украл?
— Есть, — говорит, — нечего было. Продал за пятнадцать копеек.
— Ну а здание-то, — спрашиваю, — разыскал ли?
— Обман! — говорит.
— Что ты?
— Право слово. Я, — бает, — в острог попал: думал, пойду в самый большой дом, а это острог… Как узнал я, — говорит, — что это острог, — бегом. Суток трое побирался, потом в часть взяли, а из части в острог, а из острога сюда, домой.
— Зачем, мол, тебя домой-то?
— А я, — бает, — почем знаю, по этапу!
А между прочим надет на нем новый армяк… Поглядел я, думаю: «Недаром, поди, в остроге сидел», потому откуда у него армяку взяться? да еще новый армяк-то, целковых, поди, под десяток…
— Чей, мол, армяк-то?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: