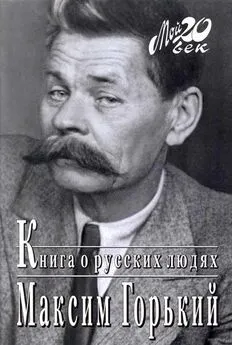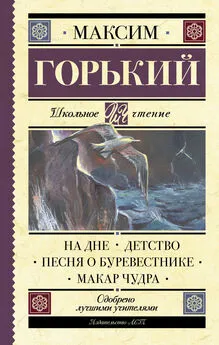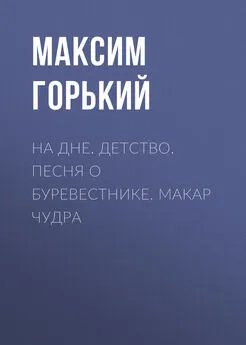Максим Горький - Том 13. Детство. В людях. Мои университеты
- Название:Том 13. Детство. В людях. Мои университеты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1949
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Том 13. Детство. В людях. Мои университеты краткое содержание
В тринадцатый том вошли автобиографические повести «Детство», «В людях», «Мои университеты», написанные М. Горьким в 1913–1923 годах.
До включения в собрание сочинений в издании «Книга» 1923–1927 годов повести неоднократно редактировались М. Горьким.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 13. Детство. В людях. Мои университеты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одна из таких забав Гостиного двора казалась мне особенно обидной и противной.
Внизу, под нашей лавкой, у торговца шерстью и валяными сапогами был приказчик, удивлявший весь Нижний базар своим обжорством; его хозяин хвастался этой способностью работника, как хвастаются злобой собаки или силою лошади. Нередко он вызывал соседей по торговле на пари:
— Кто идет на десять целковых? Стою на том, что Мишка сожрет в два часа времени десять фунтов окорока!
Но все знали, что Мишка способен сделать это, и говорили:
— Пари не держим, а ветчины можно купить, пускай жрет, мы поглядим.
— Только — чтобы чистого мяса дать, без костей!
Поспорят немного и лениво, и вот из темной кладовой вылезает тощий, безбородый, скуластый парень в длинном драповом пальто, подпоясанный красным кушаком, весь облепленный клочьями шерсти. Почтительно сняв картуз с маленькой головы, он молча смотрит мутным взглядом глубоко ввалившихся глаз в круглое лицо хозяина, налитое багровой кровью, обросшее толстым, жестким волосом.
— Батман окорока сожрешь?
— В какое время-с? — тонким голосом деловито спрашивает Мишка.
— В два часа.
— Трудно-с!
— Чего там — трудно!
— Позвольте парочку пива-с!
— Валяй, — говорит хозяин и хвастается: — Вы не думайте, что он натощак, нет, он поутру фунта два калача смял да в полдень обедал, как полагается…
Приносят ветчину, собираются зрители, всё матерые купцы, туго закутанные в тяжелые шубы, похожие на огромные гири, люди с большими животами, а глаза у всех маленькие, в жировых опухолях и подернуты сонной дымкой неизбывной скуки.
Тесным кольцом, засунув руки в рукава, они окружают едока, вооруженного ножом и большой краюхой ржаного хлеба; он истово крестится, садится на куль шерсти, кладет окорок на ящик, рядом с собою, измеряет его пустыми глазами.
Отрезав тонкий ломоть хлеба и толстый мяса, едок аккуратно складывает их вместе, обеими руками подносит ко рту, — губы его дрожат, он облизывает их длинным собачьим языком, видны мелкие острые зубы, — и собачьей ухваткой наклоняет морду над мясом.
— Начал!
— Глядите на часы!
Все глаза деловито направлены на лицо едока, на его нижнюю челюсть, на круглые желваки около ушей; смотрят, как острый подбородок равномерно падает и поднимается, вяло делятся мыслями:
— Чисто — медведь мнет!
— А ты видал медведя за едой?
— Али я в лесу живу? Это говорится так — жрет, как медведь.
— Говорится — как свинья.
— Свинья свинью не ест…
Неохотно смеются, и тотчас кто-то знающий поправляет:
— Свинья всё жрет — и поросят и свою сестру…
Лицо едока постепенно буреет, уши становятся сизыми, провалившиеся глаза вылезают из костяных ям, дышит он тяжко, но его подбородок двигается всё так же равномерно.
— Навались, Михаиле, время! — поощряют его. Он беспокойно измеряет глазами остатки мяса, пьет пиво и снова чавкает. Публика оживляется, всё чаще заглядывая на часы в руках Мишкина хозяина, люди предупреждают друг друга:
— Не перевел бы часы-то он назад — возьмите у него! кусков!
За Мишкой следи: не спускал бы в рукава
— Не сожрет в срок!
Мишкин хозяин задорно кричит:
— Держу четвертной билет! Мишка, не выдай!
Публика задорит хозяина, но никто не принимает пари.
А Мишка всё жует, жует, лицо его стало похоже на ветчину, острый, хрящеватый нос жалобно свистит. Смотреть на него страшно, мне кажется, что он сейчас закричит, заплачет:
«Помилуйте…»
Или — заглотается мясом по горло, ткнется головою в ноги зрителям и умрет.
Наконец он всё съел, вытаращил пьяные глаза и хрипит устало:
— Испить дайте…
А его хозяин, глядя на часы, ворчит.
— Опоздал, подлец, на четыре минуты…
Публика дразнит его:
— Жаль, не шли на спор с тобой, проиграл бы ты!
— А все-таки зверь-парень!
— Н-да, его бы в цирк…
— Ведь как господь может изуродовать человека, а?
— Айдате чай пить, что ли?
И плывут, как баржи, в трактир.
Я хочу понять, что сгрудило этих тяжелых, чугунных людей вокруг несчастного парня, почему его болезненное обжорство забавляет их?
Сумрачно и скучно в узкой галерее, тесно заваленной шерстью, овчинами, пенькой, канатом, валяным сапогом, шорным товаром. От панели ее отделяют колонны из кирпича; неуклюже толстые, они обглоданы временем, обрызганы грязью улицы. Все кирпичи и щели между ними, наверное, мысленно пересчитаны тысячи раз и навсегда легли в памяти тяжкой сетью своих уродливых узоров.
По панели не спеша идут пешеходы; по улице не торопясь двигаются извозчики, сани с товаром; за улицей, в красном кирпичном квадрате двухэтажных лавок, — площадь, заваленная ящиками, соломой, мятой оберточной бумагой, покрытая грязным, истоптанным снегом.
Всё это, вместе с людями, лошадьми, несмотря на движение, кажется неподвижным, лениво кружится на одном месте, прикрепленное к нему невидимыми цепями. Вдруг почувствуешь, что эта жизнь — почти беззвучна, до немоты бедна звуками. Скрипят полозья саней, хлопают двери магазинов, кричат торговцы пирогами, сбитнем, но голоса людей звучат невесело, нехотя, они однообразны, к ним быстро привыкаешь и перестаешь замечать их.
Похоронно гудят колокола церквей, — этот унылый звон всегда в памяти уха; кажется, что он плавает в воздухе над базаром непрерывно, с утра до ночи, он прослаивает все мысли, чувства, ложится пригнетающим медным осадком поверх всех впечатлений.
Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое, низкое, пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира, конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, и бежать куда-то, и удариться головой с разбега о первую стену.
Я всматриваюсь в лица купцов, откормленные, туго налитые густой, жирной кровью, нащипанные морозом и неподвижные, как во сне. Люди часто зевают, расширяя рты, точно рыбы, выкинутые на сухой песок.
Зимою торговля слабая, и в глазах торгашей нет того настороженного, хищного блеска, который несколько красит, оживляет их летом. Тяжелые шубы, стесняя движения, пригибают людей к земле; говорят купцы лениво, а когда сердятся — спорят; я думаю, что они делают это нарочно, лишь бы показать друг другу: мы — живы!
Мне очень ясно, что скука давит их, убивает, и только безуспешной борьбой против ее всепоглощающей силы я могу объяснить себе жестокие и неумные забавы людей.
Иногда я беседую об этом с Петром Васильевым. Хотя вообще он относится ко мне насмешливо, с издевкой, но ему нравится мое пристрастие к книгам, и порою он разрешает себе говорить со мною поучительно, серьезно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: