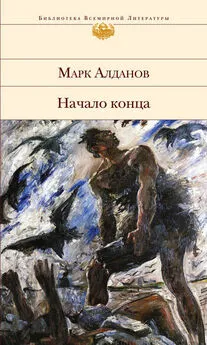Марк Алданов - Начало конца
- Название:Начало конца
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Эксмо»334eb225-f845-102a-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-53731-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Алданов - Начало конца краткое содержание
Марк Алданов – необыкновенно популярный писатель ХХ века, за которым сразу после появления его произведений закрепилась репутация одного из самых талантливых писателей своего времени, автор исторических романов, столь любимых многими читателями. В. Набоков дал емкое определение поэтики М. Алданова: «Усмешка создателя образует душу создания».
Роман «Начало конца» рассказывает о трагических событиях в Западной Европе и России 1937 г. и гражданской войне в Испании. Впервые в художественной литературе Алданов подвел итог кровавым событиям 1937 года, заговорил о духовном родстве фашизма и коммунизма. Проклятые вопросы 30-х годов, связь ленинских идей и сталинских злодеяний, бессилие и сила демократии – эти вопросы одни из важнейших в романе. Устами одного из своих героев Алданов определил, что русские революционеры утвердили в сознании нравственность ненависти; в основе мизантропических построений теоретиков Третьего рейха русский писатель увидел сходное оправдание ненависти, только ненависти арийцев к неарийцам. Книга издается к 125-летию писателя.
Начало конца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Перед тем как Бунин в 1933 г. был удостоен Нобелевской премии, Алданов, свидетельствуют современники, проделал серьезную подготовительную работу: разослал крупным западным деятелям литературы и искусства письма, в которых просил (призывал) их публично высказаться в поддержку кандидатуры своего соотечественника и друга. Он получил несколько десятков разных по содержанию и форме ответов и, рассматривая их, задумался над психологией западного интеллектуала-гуманиста, который, долгое время оставаясь «над схваткой», в конце концов делает свой политический выбор. Его Луи Этьенн Вермандуа, острослов, эрудит, лучшее украшение литературных салонов, в начале романа друг Советского Союза, собирающийся вступить в коммунистическую партию. К концу романа основополагающие труды классиков марксизма-ленинизма ему представляются философией кухарок, он декларирует, что нет разницы между «человеком с усиками» и «человеком с усами». Финальная сцена романа, где Вермандуа в разговоре с Кангаровым-Московским в резкой форме, гневно отказывается послать в Москву телеграмму в поддержку «показательных процессов», навеяна эпизодом из жизни Андре Жида, автора «Фальшивомонетчиков», впоследствии Нобелевского лауреата.
В 1936 г. Жид был приглашен в Советский Союз. Его принимали, что называется, по высшему разряду: был удостоен чести выступить на траурном митинге на похоронах Горького, ездил в Сочи навещать прикованного к постели Н. Островского. Но когда возвратился домой во Францию и опубликовал о своей поездке книгу очерков, выяснилось: не от всего увиденного он в восторге, позволяет себе и некоторые упреки в адрес увиденного. Это сразу же вызвало бурю негодования в Москве. Начатое изданием собрание его сочинений тут же приостановили, «Литературная газета» аттестовала его как наймита мировой буржуазии. Алданов находился в переписке с Андре Жидом, встречался с ним, следил за случившейся с ним историей. Впоследствии с большой симпатией изобразил Жида в очерке «Конец группы Понтиньи».
И в то же время Вермандуа отчасти автопортрет писателя. Задумывая новый роман «из древнегреческого быта», для вдохновения Вермандуа достает с книжной полки два классических исторических романа почему-то из эпохи французской революции – «Девяносто третий год» Виктора Гюго и «Боги жаждут» Анатоля Франса. Вермандуа эти книги совершенно далеки по теме, но, несомненно, обе живо волновали самого Алданова, создателя романа «Девятое термидора». Оба, Вермандуа и Алданов, подрабатывают в газетах очерками о политических знаменитостях; первый пишет очерк об Идене, второй несколькими годами ранее опубликовал очерк о Черчилле. Собираясь встретиться с Алдановым осенью 1940 г. в Ницце, Бунин подготовил заранее листок, где колонкой были выписаны ряды фраз из романа «Начало конца», – рассказывает мемуарист Александр Бахрах. Он начинает не без иронии убеждать Алданова, что Вермандуа – автопортрет: «Подумайте только, Марк Александрович, Вермандуа, вы сами пишете, «цитировал сто тысяч человек», а вы? «вежливость была в его природе», а у вас? «грубые рецензии приводили его в раздраженное недоумение», а вас?(…) А дальше ваш Вермандуа говорит: «Но ведь весь смысл жизни в писательском призвании, вся ее радость». Ведь все это ваши собственные переживания, – настаивал Бунин, – да и вы, родись вы французом, расхаживали бы в зеленом академическом фраке и были бы «бессмертным».
Алданов, по словам мемуариста, отрицал автобиографичность своего героя и, возражая Бунину, настаивал, что в его романе Вермандуа если не коммунист, то салонный «большевизан», а этого достаточно, чтобы отбросить мысль о тождестве писателя и героя. Но на деле, считает Бахрах, Бунин был прав, предполагая, что отличия даны лишь для отвода глаз и по сюжетной надобности.
Алданов любил повторять, что ни один его вымышленный персонаж не списан с одного конкретного прототипа, каждый – собрание черт и деталей, заимствованных у разных лиц. Казалось бы, писателю угрожала опасность механического соединения случайных красок на палитре, неорганичности персонажей. Но на деле он эту опасность предвидел, умел ее избежать, и его Вермандуа может служить примером внутренней цельности. В этом ключе рассматривал характер Г. Адамович, считавший, что герой и человечен, и многогранен: «Без рисовки, без вызова он говорит то, что кажется ему нужным и верным, а как это будет принято – дело для него второстепенное. Если признать, что человек ценен сам по себе, а не только в качестве материала или орудия, важно и интересно всякое его состояние, тем более такое, когда он создает пустоту своей жизни, когда уже поздно что-либо в этой жизни исправлять, когда он ищет объяснения или утешения не для себя только, а для всех (когда он всем существом своим подведен к тому, чтобы понять смысл толстовских слов: «после глупой жизни придет глупая смерть»). Вермандуа – не пророк, не гений, не потрясатель основ. Он умный человек, но по своему духовному складу человек обыкновенный и имеет мужество этого не скрывать (…) После главы о Вермандуа из «Начала конца» попробуйте сразу перейти к любому современному роману, самому блестящему, самому искусному, искрящемуся, ослепительному как фейерверк – невозможно читать, книга валится из рук, скучно, неинтересно, все мимо, все впустую…»
Избрав героем писателя-эрудита, Алданов, казалось бы, должен был вложить в его уста целый фейерверк афоризмов о литературе. Но и здесь он поступает неожиданным образом: единственный пассаж Вермандуа о классике смешон. Он говорит, что Римский-Корсаков, создатель оперы «Моцарт и Сальери», был введен в заблуждение невеждой-либреттистом, утверждавшим, будто Сальери – отравитель. Что этот «либреттист» – Пушкин, герой-француз не знает, и это ему извинительно. Однако, чтобы неискушенный читатель не заподозрил автора в неуважении к великому поэту, особенно в атмосфере недавнего пышно отмеченного пушкинского юбилея, Алданов тут же связывает судьбу своего командарма Тамарина с провидческими строками из стихотворения Пушкина «Родриг».
В литературе Алданова больше всего волновала русская литература. Отказавшись от мысли сделать рупором своих идей Вермандуа, он избрал на эту роль прежде всего Вислиценуса. Его суждения категоричны, он высказывает мысли, справедливые лишь отчасти. В литературно-критических статьях Алданова – стремление к объективности, взвешенности суждений, для его персонажей характерна заданная односторонность – при том, что они образованные, широко мыслящие, вызывающие уважение читателя. Как и его создатель, Вислиценус не любит Достоевского, видит в нем врага, «замоскворецкого мещанина», упрекает его: прожив «на каторге четыре года, служил им верой и правдой весь остаток жизни». Гоголь, напротив, воспринимается героем как часть собственного духовного мира. О его поэме: «Читал в эмиграции, читал в тюрьме, читаю теперь тут, и всегда с наслаждением, и, разумеется, не оттого, что в ней разоблачаются взяточники и мошенники. Он хотел заклеймить и неожиданно «возвел в перл создания» – выражение гадкое, но это так: возвел. Мне все равно, брали взятки или нет его чиновники – хоть каждый из них вышел симпатичнее Костанжогло – но жизнь их была милая, обильная, счастливая и даже поэтическая, и мне при чтении этой книги всегда (…) хотелось жить во времена Чичикова, путешествовать в его бричке, есть в его гостинице поросенка с хреном, заливать фруктовой блины у Коробочки…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: