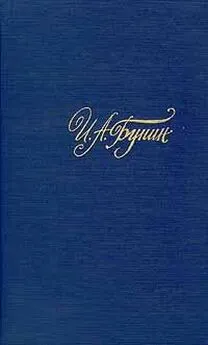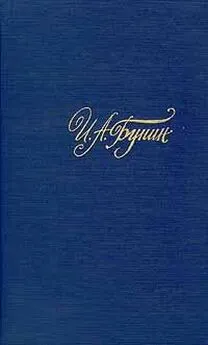Иван Бунин - Том 4. Произведения 1914-1931
- Название:Том 4. Произведения 1914-1931
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00056-6, 5-280-00055-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Бунин - Том 4. Произведения 1914-1931 краткое содержание
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В четвертый том Собрания сочинений вошли произведения И. А. Бунина 1914–1931 годов («Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Митина любовь» и др.).
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Произведения 1914-1931 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так вот и шли рядом две совершенно разных жизни наша и архивная. Так и стояли мы с этим упрямым и потешным старичком каждый на своем, коснея в своих совершенно разных убеждениях… Как вдруг старичок взял да и умер. Смерть его, как и всякая смерть, конечно, не могла быть потешной, — ведь все-таки горько плакала старушка на пороге хаты в предместье, нагревая щеткой солдатские сапоги и не желая расставаться с надеждой, что хозяин их поднимется и опять поплетется в архив, — но что эта смерть была не менее странной, чем и жизнь Фисуна, с этим, надеюсь, согласится всякий. Произошла она, правда, отчасти по нашей вине: мы ведь все-таки на некоторое время сломили его упрямство, заразили его своей верой в торжество свободы и равенства; да ведь кто же мог знать, что он уж до такой крайней степени окажется робок во втором этаже управы, что он, будучи таким робким и от природы, и в силу давней привычки трепетать перед вторыми этажами, вдруг перейдет всякие границы свободы и что дело кончится смертью?
Произошла же эта смерть следующим образом.
Служил я первый год, служил второй, третий… а Фисун шестьдесят шестой, шестьдесят седьмой. Время, повторяю, было трудное, — недаром обжора и пьяница, но либеральнейший человек, старший врач губернской земской больницы говорил: «Бывали хуже времена, но не было подлей»; время было темное, но ведь уж известно, что «чем ночь темней, тем ярче звезды», что «самая густая тьма — предрассветная». И мы все крепче верили в этот «грядущий рассвет». А Фисун по-прежнему твердо держался своего — того косного убеждения, что двум колосьям в уровень никогда не расти. Однако буквально каждый год приносил поражение за поражением этому Фоме неверному: с каждым годом все бодрее звучали голоса и старых земских бойцов, и идущих на смену им. И вот, наконец, чуть не поголовно всеми, ежегодно собиравшимися в ноябре в двухсветной зале нашей управы, овладели знаменитые «весенние мечтания». А когда из-за редеющих зимних облаков выглянуло и само весеннее солнце, когда полетели в поднебесье первые птицы и затрещал кое-где лед, сковывавший дотоле вольные воды, эти мечтания, прихлынув к сердцам, вылились уже в определенную форму, в форму страстных протестов, пожеланий, требований и самых зажигательных речей! До самых подземелий управы проник горячий весенний свет, и Фисун, хотя и растерялся от этого света, невольно зажмурил свои старые глаза, уже не мог не видеть, не мог отрицать того, что стало зримым, явным и несомненным для всех. Управа в тот ноябрь была подобна вешнему улью: сверху донизу гудела она народом, среди которого было и огромное количество посторонних, начиная с курсисток, студентов, врачей и кончая даже обывателями, и, казалось, уже не стало никакого различия между низом и верхом, между большими и малыми: все, от первых земских магнатов до последнего сторожа, от предводителя дворянства до Лугового, жаждали заключить друг друга в объятия, чтобы уже одним потоком к одной цели двинуться вперед. «Свобода! свобода!» — звучало повсюду. И вот на этот-то клич и двинулся к изумлению всех, даже и сам Фисун: повязался по холодным восковым ушам свернутым красным платком, выполз, горбясь и оседая на ноги, касаясь хвостом пиджака голенищ, из своих подземелий, добрел до лестницы, во всю ширину крытой красным сукном, — и хотя и очень медленно, но упрямо стал подниматься наверх, к тем огромным зеркалам, туманно-голубым от табачного дыма и отражающим в себе целое море народа, что были по бокам главного входа в двухсветный зал собрания. А поднявшись, смешался с шумными, воедино слитыми в одну массу народными толпами, вольно стал бродить по коридору, по отделениям, по кабинетам — и узрел-таки, наконец, самого Златоуста нашего, самого Станкевича.
И ах, как говорил Станкевич в этот день! Смелое и гордое решение приступом идти на твердыни старого мира уже созрело, — оставалось только уронить в полную чашу ту драгоценную каплю, что переливает влагу через край. И звучно провозгласил предводитель дворянства, председатель собрания, терявшийся за морем голов в туманно-голубом зале, у блистающего золотом, лаком и красками царского портрета, что принадлежит слово Алексею Алексеевичу Станкевичу, и среди благоговейной тишины поднялась из среды сидевших за бесконечно длинным столом могучая и седовласая фигура «льва русской гражданственности». Он и наружностью похож был на льва. Правда, уже согбен годами и думами, лицом очень красен, взором важно-печален и тускл; поднялся медленно, концами дрожащих красных пальцев оперся на стол, крытый зеленым сукном, заговорил сперва тихо, раздельно… Но какая уверенность звучала в этих тихих, раздельно произносимых словах, какая буйная грива седых кудрей возвышалась над высоким челом, ниспадая на плечи, облеченные в простой черный сюртук! А как потом окреп голос оратора, как зазвучал сталью, призывая без страха и сомнения вперед на борьбу, как поверг этот голос всю залу, вплоть до переполненных хор, сперва в жуткое молчание, а после в неистовый восторг, прорвавшийся бешеными кликами, — того и описать невозможно!
Сам потрясенный своей речью и разбитый усталостью, но торжествующий, засыпанный аплодисментами и цветами с хор, опустился Станкевич на свое место и долго, бледный и важный, как бы ничего не видящий, сидел, откинувшись к спинке кресла. А потом снова приподнялся — и среди почтительно расступающегося земского и иного люда со старческой неспешностью проследовал вон из зала.
Где был в это время Фисун? Но вот в том-то и дело, что Фисун проследовал к той же цели, которая подняла с места Станкевича, еще ранее. Фисуну, долго стоявшему у входа в зал, за плечами сгрудившейся толпы, ровно ничего не было слышно. И, устав стоять, чувствуя дремоту и некоторую потребность, он медленно, но довольно свободно опять побрел по коридору. И, дойдя до конца его, постоял в раздумье, сонно глядя на дверь, за которую смели прежде заглядывать только председатель, гласные да высшие чины управы; а затем, ничтоже сумняшеся, взялся за ее скобу и, затворившись на крючок, долго-долго пробыл за этой дверью.
Не будь он глух, не завязывай платком ушей, слышал бы он, несчастный, что чья-то рука несколько раз дергала за скобку и что чей-то недовольный, тоже старческий голос бормотал что-то. Но он был глух, глух и повязан платком! Был он, кроме того, очень неспор в движениях, потребных для приведения своего костюма в порядок. Когда же одолел он все это и распахнул дверь, то увидел, что перед ним — сам Станкевич! И застыли, замерли два старика друг перед другом, — первый от изумления и негодования, а второй от ужаса.
— Как? — медленно выговорил первый, выкатывая глаза и нагибаясь. — Как? Так это ты, негодяй, сидел там?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: