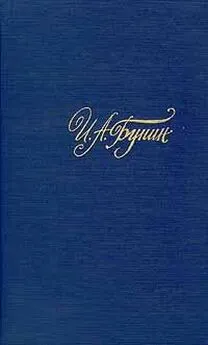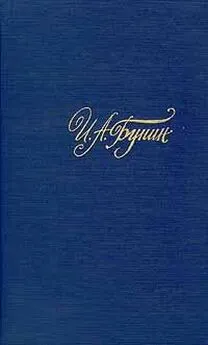Иван Бунин - Том 4. Произведения 1914-1931
- Название:Том 4. Произведения 1914-1931
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00056-6, 5-280-00055-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Бунин - Том 4. Произведения 1914-1931 краткое содержание
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В четвертый том Собрания сочинений вошли произведения И. А. Бунина 1914–1931 годов («Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Митина любовь» и др.).
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Произведения 1914-1931 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И, поднявшись со скамьи, старичок снял шляпу и, странно улыбаясь, потряс ею в воздухе.
28 июня 1924
Русак
Непроглядная метель, стекла окон залеплены свежим, белым снегом, в доме белый, снежный свет; и все время однообразно шумит за стенами, однообразно, через известные промежутки, скрипит и стонет сук старого дерева в палисаднике, задевающий крышу. Как всегда в метель, с особой отрадой чувствую старину, уют дома.
Вот в прихожей хлопнула дверь, слышно, как Петя, вернувшийся с охоты, топает валенками, отряхивается от снега, затем мягкими шагами проходит через залу к себе. Я встаю и иду в прихожую, С полем или нет?
С полем.
На лавке в прихожей, растянувшись, выкинув передние лапки вперед, а задние назад, лежит уже выбелившийся русак. Гляжу на него, трогаю его и с изумлением и с восторгом.
Он лобастый, с большими и выпученными, глядящими назад стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть еще не померкшими, — все такими же бессмысленно блестящими, как и при жизни.
Но вся его тяжелая тушка уже каменно тверда и холодна.
Каменны туго вытянутые лапки и жесткой шерстке. Туго завернут серо-коричневый мохор хвостика. И на торчащих кошачьих усах, на раздвоенной верхней губе — запекшаяся кровь.
Чудо, дивное чудо!
Час тому назад, всего час тому назад, шевеля этими усами, прижав вот эти длинные уши и чутко, зорко кося за спину стеклом глаз, золотистых внутри, он лежал в мерзлой ямке под сугробом в поле, наполняя эту ямку своим жарким теплом, блаженствуя в буйном дыму вьюги, которая со всех сторон дула, заносила его снегом. Внезапно открытый и поднятый собакой, он дал от нее такого стрекача, головокружительную красоту которого не выразить никаким человеческим словом. И как жарко и дико колотилось его обезумевшее, оглушенное выстрелом сердце, когда порывисто оборвался его бег, а Петя крепко поймал его за уши, и каким пронзительным, младенческим воплем ответил он на то последнее, что вдруг ощутил он, — острый огонь кинжала, глубоко пронзивший ему горло…
Нет слов выразить то непонятное наслаждение, с которым я чувствую и эту гладкую шкуру, и закаменевшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залепленное свежим, белым снегом, и весь этот вьюжный, бледный свет, разлитый в доме.
19 августа. 1924
Книга *
Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?
Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.
Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, — особенно к югу, — еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.
По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.
— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?
Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.
В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?
«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, — для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.
«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!
20 августа 1924
Митина любовь *
В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.
Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.
Возле Пушкина она неожиданно сказала:
— Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза…
Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: