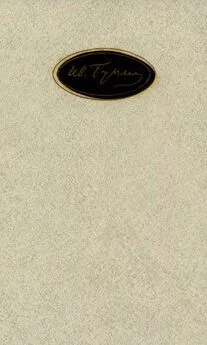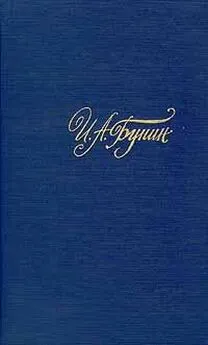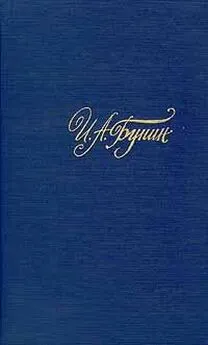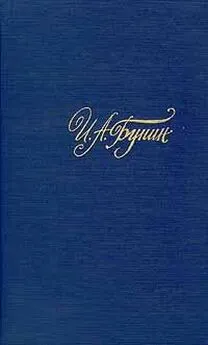Иван Бунин - Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952
- Название:Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-280-00058-2, 5-280-00055-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Бунин - Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952 краткое содержание
Имя Ивана Бунина (1870–1953) — одного из проникновенных, трагических классиков русской литературы, почетного академика изящной словесности, лауреата Нобелевской премии (1993) — известно во всем мире.
В пятый том Собрания сочинений И. А. Бунина вошли «Жизнь Арсеньева», цикл рассказов «Темные аллеи» и рассказы последних лет жизни писателя.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но это еще не все. Бунин наделяет Арсеньева в первую очередь чертами художника, поэта. Потому что, как мы знаем, сам Бунин считал себя всю жизнь главным образом лирическим поэтом, и уже потом — прозаиком. И понятно, что замысел книги об Алексее Арсеньеве был именно замысел написать «жизнь артиста» — поэта, в чьей душе уже с детства переплавляются «все впечатленья бытия», чтобы впоследствии быть претворенными в слове. Таким образом, действительно, «Жизнь Арсеньева», с одной стороны — автобиография вымышленного лица, некоего собирательного «рожденного стихотворца», а не просто Ивана Алексеевича Бунина. С другой же стороны, эта книга — самая откровенная, лирическая, исповедальная из бунинских творений. В этом ее диалектика, слияние в ней реальности и вымысла, или, если перефразировать слова Гете, слияние правды и поэзии (Гете так и назвал книгу об «истоках» своих дней: «Поэзия и правда»). Отсюда и двуплановость книги: постоянное присутствие автора, прошедшего уже длинный жизненный путь, его теперешняя точка зрения, его сегодняшнее мироощущение, как бы вливающееся в то, давнее; взаимопроникновение былого и настоящего. Возврат шестидесятилетнего человека в собственное детство и юность — и тут же «скачок» в сегодняшний день, в собственную старость. Растворение в прошлом, а вслед — его воссоздание из далека прошедших десятилетий. Все это создает некий льющийся «поток сознания», выраженный в такой же текучей, непрерывающейся, неспешной и плавной, с длинными периодами, лирической прозе; в нее легко погрузиться, но из нее трудно выйти: она влечет за собой, и убыстрить наш путь в ней невозможно; читая, нельзя пропустить ни слова, иначе рассыплется целое, нарушится слиянность настоящего и прошлого, запечатленная в этом речевом потоке. Вчитаемся же в эту магическую, волшебную прозу:
«В те дни (прежде чем покинуть родительское гнездо. — А. С.) я часто как бы останавливался и с резким удивлением молодости спрашивал себя: …что же такое моя жизнь в этом непонятном, вечном и огромном мире, окружающем меня, в беспредельности прошлого и будущего и вместе с тем в каком-то Батурине, в ограниченности лично мне данного пространства и времени? И видел, что жизнь (моя и всякая) есть смена дней и ночей, дел и отдыха, встреч и бесед, удовольствий и неприятностей, иногда называемых событиями; есть беспорядочное накопление впечатлений, картин и образов, из которых лишь самая ничтожная часть (да и то неизвестно, зачем и как) удерживается в нас; есть и непрестанное, ни на единый миг нас не оставляющее течение несвязных чувств и мыслей, беспорядочных воспоминаний о прошлом и смутных гаданий о будущем; а еще — нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уже никак нельзя уловить и выразить, и — связанное с ним вечное ожидание: ожидание не только счастья, какой-то особенной полноты его, но еще и чего-то такого, в чем (когда настанет оно) эта суть, этот смысл вдруг наконец обнаружатся».
Так выражает писатель душевное состояние юноши, почти мальчика (Арсеньеву здесь нет и шестнадцати). Но ведь герой, как уже было сказано, это «сконцентрированный» автор. Это — как бы Иван Алексеевич Бунин, у которого детство, отрочество и юность сложились столь благоприятно и гармонично, что он, не потеряв ни часа драгоценного времени, только и занимался тем, что взрослел, мужал, набирал духовные силы. В действительности было совсем иначе. Бунин горько сетовал, вспоминая, как убого, плохо он прожил столько лет, что у него совершенно пропали самые лучшие, самые нежные годы. «Разве я так писал бы, — жаловался он, — если бы я в юности жил иначе, если бы я больше учился, больше работал над собой… если бы у меня в молодости не было такой нужды. Восемнадцатилетним мальчиком я был уже фактическим редактором „Орловского вестника“, где я писал передовицы о постановлениях святейшего Синода, о вдовьих домах и быках-производителях, а мне надо было учиться и учиться по целым дням!»
Но Бунин несправедлив к себе. С юности он, можно сказать, каждодневно учился у жизни, — так же, как учится у жизни его Арсеньев, впитывая в себя все, что дает ему жизнь, вплоть до таких, казалось бы, малоблагоприятных обстоятельств, как глушь, заброшенность и одинокость усадебного, существования с бесконечно однообразными зимними вечерами… О том, как в действительности проходили эти вечера, говорит нам такая сохранившаяся запись шестнадцатилетнего Вани Бунина:
«Вечер. На дворе, не смолкая, бушует страшная вьюга. Только сейчас выходил на крыльцо. Холодный, резкий ветер бьет в лицо снегом… Холод нестерпимый.
Лампа горит на столе слабым тихим светом. Ледяные белые узоры на окнах отливают разноцветными блестящими огоньками. Тихо. Только завывает метель да мурлычет какую-то песенку Маша (сестра. — А. С.). Прислушиваешься к этим напевам и отдаешься во власть долгого зимнего вечера. Лень шевельнуться, лень мыслить.
А на дворе все так же бушует метель. Тихо и однообразно протекает время».
Алеше Арсеньеву, напротив, из детства больше всего запомнились летние дни, притом непременно солнечные, сияющие, с цветами, бабочками, птицами. И дальше, охватывая памятью свое отрочество и юность, он лишь упоминает о множестве долгих «серых и жестоких зимних дней», когда «по целым неделям несло непроглядными, азиатскими метелями», — и тут же признается, что сразу мысль переносит его на «бал в женской гимназии». Если же речь идет о природе, она вспоминается ему опять-таки непременно летней, цветущей, поющей, благоухающей, с ясными лунными ночами. «У памяти хороший вкус», — гласит известная пословица; у поэтической памяти — особенно, — как бы хочет сказать автор «Арсеньева». Так, на протяжении всей книги, правда преображалась в поэзию…
В этом смысле интересен и характерен образ отца Арсеньева. Его прототипом послужил отец писателя, Алексей Николаевич Бунин. В книге это — человек, неотразимый в своем обаянии, хотя и «грешный», вспыльчивый и отходчивый, беспечный и жизнелюбивый, распространяющий вокруг себя ощущение радости жизни, талантливая артистическая натура. Бунин очень сдержанно показывает так называемую обратную сторону медали; распущенность, безответственность отца по отношению к семье, что привело ее к полнейшему разорению. На все это в «Жизни Арсеньева» лишь вскользь намекается; об осуждении, даже о суждении и речи нет; в книге царит яркий и праздничный (от слова праздник и праздность одновременно) человек, — тот, кому обязан сын многими светлыми чертами своего характера, — отец поэта.
Можно ли подумать, что Бунин прикрашивал в своей книге лица и события? Нет. Думать так было бы ошибкой. Надо понять прежде всего вот что. «Жизнь Арсеньева» писалась в тот период жизни Бунина, когда свойственный ему повышенный «вкус существования» не только не ослабевал с годами, а, напротив, все более и более укреплялся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: