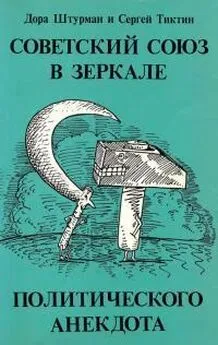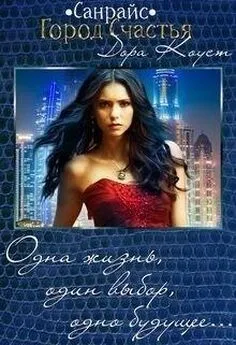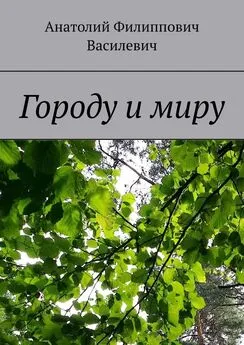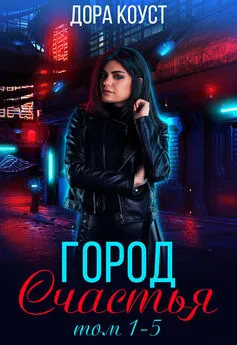Дора Штурман - Городу и миру
- Название:Городу и миру
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дора Штурман - Городу и миру краткое содержание
Городу и миру - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"У нас в стране я рассчитываю на ту степень опамятования, которая уже разлилась в нашем народе и не могла не распространиться в сферах военных и административных, тоже. Ведь народ - это не только миллионные массы внизу, но и отдельные представители его, занявшие ключевые посты. Есть же сыны России и там. И Россия ждет от них, что они выполнят сыновий долг. Этой прослойке должно быть понятно, что всякая захватная война есть наша национальная гибель.
Я хорошо помню наше офицерство, 2-й мировой войны, сколько пылких честных сердец кончало ту войну, и с порывом устроить, наконец, жизнь на родине. И не могу допустить, чтоб они бесследно все ушли, как вода в песок. Чтоб они или их наследники были равнодушны к ужасной судьбе, которую готовят нашей родине, к гиблой международной авантюре, куда загоняют ее.
Я - верю в наш народ на всех уровнях, кто куда попал. Не может быть, чтобы 1100-летнее существование нашего народа в какой-то, еще не известной нам форме, не пересилило бы 60-летнего оголтения коммунистов. Все-таки наша жила - крепче! И мы должны пересилить их, отряхнуться от них.
Это может произойти и в разгаре будущей войны - но в тысячу раз лучше, если найдутся силы изнутри остановить агрессию еще до ее возникновения" (II, стр. 371-372. Выд. Д. Ш.).
Итак, несмотря на все разочарования, на весь скепсис по отношению к "вождям", сохраняется надежда на какие-то "силы изнутри", способные изменить ход событий, в том числе - на "отдельных представителей" народа, "занявших ключевые посты"; на "народ на всех уровнях, кто куда попал", на "прослойку" в офицерских кругах и семьях, которой должны быть внятны истинные интересы нации и очевидный ужас "гиблой международной авантюры, куда загоняют" страну ее нынешние правители. Самое же главное, на наш взгляд, в этом ответе, - короткая оговорка, что одоление оголтелого коммунизма народом произойдет "в какой-то, еще не известной нам форме". Ни уверенного пророчества, ни навязывания соотечественникам какого-то избранного за них единственно верного способа освобождения и выздоровления здесь нет и в помине. Нет здесь (и нигде нет) того предложения себя в политические вожди, которое упорно приписывают Солженицыну некоторые его оппоненты и пародисты.
Солженицын верит, что здоровые силы есть, что "в какой-то форме" они о себе заявят (отчасти уже заявляют); он надеется, что они одержат победу. Сейчас самое время проверить реальность этой его надежды. Поживем - увидим.
Но как технологически будут действовать эти неведомые конструктивные силы, чтобы помочь стране, он не знает:
"Отказаться от всех захватных международных бредней - и начать мирное, долгое, долгое, долгое - выздоровление" (II, стр. 372).
"Письмо вождям", "Образованщина" и "Жить не по лжи" были попытками подсказать соотечественникам наиболее безболезненную технологию освобождения и выздоровления. Не политик и ни в какой мере не партийный деятель (а его пытаются иногда изобразить почвенническим вариантом Ленина), Солженицын, конечно, болен действительностью:
"От сегодняшней действительности не очень-то отойдешь, потому что она жжет, со всех сторон припекает. Как Вы знаете, я немало поездил по странам, выступал, - но просто от страсти: не могу спокойно смотреть, как они сдают весь мир и самих себя" (II, стр. 354).
Но отвечает он на жар и горечь действительности по-писательски и по-исследовательски: с головой погружаясь в ее истоки, в их осознание. Когда же действительность припекает так, что пребывание всеми мыслями в прошлом становится невозможным, рождается публицистика, разговор о которой мы только начали.
Одним из публицистических выступлений, наиболее соответствующих современному взгляду Солженицына на рассмотренные выше вопросы, является его интервью для газеты 'Таймс", взятое у него Бернардом Левиным в конце 1983 года (IV, стр. 38-43).
В духовном подъеме Нобелевской речи Солженицын признавал за искусством и литературой способность передавать от народа к народу, от поколения к поколению, от души к душе человеческий опыт - так, чтобы освободить одних от необходимости повторять ошибки других. В 1983 году он с горечью говорит:
"Я раньше думал, что можно разделить, передать опыт от одной нации к другой, хотя бы с помощью литературы. Теперь я начинаю думать, что большинство не может перенять чужого опыта, пока не пройдет его само. Надо иметь очень сострадающее сердце и очень чуткую душу, чтобы воспринять чужие страдания" (IV, стр. 39).
Впрочем, уже через год после Нобелевской речи, в своем интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" и газете "Монд", Солженицын сказал об утрате надежды быть услышанным миром:
"Тщетно я пытался год назад в своей Нобелевской лекции сдержанно обратить внимание на эти две несравнимых шкалы оценки объема и нравственного смысла событий. И что нельзя допустить считать "внутренними делами" события в странах, определяющих мировые судьбы.
Так же тщетно я указал там, что глушение западных передач на Востоке создает ситуацию накануне всеобщей катастрофы, сводит к нулю международные договоры и гарантии, ибо они таким образом не существуют в сознании половины человечества, их поверхностный след может быть легко стерт в течение нескольких дней или даже часов. Я полагал тогда, что также и угрожаемое положение автора лекции, произносимой не с укрепленной трибуны, а с тех самых скал, откуда рождаются и ползут мировые ледники, несколько увеличит внимание развлеченного мира к его предупреждениям.
Я ошибся. Что сказано, что не сказано. И, может быть, так же бесполезно повторять это сегодня" (II, стр. 26).
И еще не раз будут ставиться писателем горестные вопросы:
'Так все-таки: возможно или невозможно передать опыт от тех, кто страдал, к тем, кому еще предстоит страдать? Так все-таки: способна или неспособна одна часть человечества научиться на горьком опыте другой? Возможно или невозможно кого-нибудь предупредить об опасности?" (I, стр. 231)
Речь идет о том, чтобы не только увидеть чужие страдания, но и усмотреть в них свое неисключенное будущее, убояться их для себя. Вот этого и бежит в страхе психологического дискомфорта и необходимости действовать (иногда - с помощью близоруких и легкомысленных выходцев из тоталитарного мира) западное сознание.
Сведeние этого страха к отпадению от "Божественного источника" (IV, стр. 39), мне кажется, не исчерпывает проблемы. И не только потому, что и в истории, и в современности религиозность нередко сочеталась в одних и тех же жизнях и организациях с глубокими заблуждениями и со служением злу. Солженицын справедливо замечает, что "свобода требует мужества и ответственности" (IV, стр. 39), а в религии тоже можно расположиться достаточно комфортабельно, переложив мужество и ответственность на Бога, значит - сняв их со своих плеч(. Опять - все упирается в то, как и во что веровать, как толковать волю Бога и свой долг по отношению к нему - в личный выбор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: