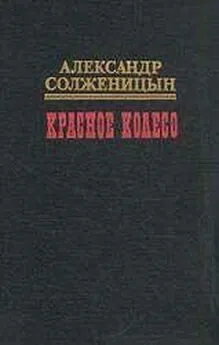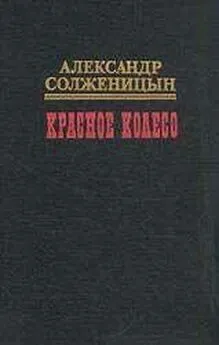Александр Солженицын - Красное колесо. Узел 4. Апрель Семнадцатого. Книга 2
- Название:Красное колесо. Узел 4. Апрель Семнадцатого. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1050-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Солженицын - Красное колесо. Узел 4. Апрель Семнадцатого. Книга 2 краткое содержание
Отголоски петроградского апрельского кризиса в Москве. Казачий съезд в Новочеркасске. Голод – судья революции. Фронтовые делегаты в Таврическом. – Ген. Корнилов подал в отставку с командования Петроградским округом. Съезд Главнокомандующих – в Ставке и в Петрограде. – Конфликтное составление коалиции Временного правительства с социалистами. Уход Гучкова. Отставка Милюкова. Керенский – военно-морской министр. – Революционная карьера Льва Троцкого.
По завершении «Апреля Семнадцатого» читателю предлагается конспект ненаписанных Узлов (V–XX) – «На обрыве повествования», дающий объемлющее представление о первоначальном замысле всего «Красного Колеса». Детально прослеживаются события Семнадцатого года, сжато – с февраля Восемнадцатого по весну Двадцать Второго.
Красное колесо. Узел 4. Апрель Семнадцатого. Книга 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Грядёт возмездие. Ему будут ужасаться и его будут стараться оправдать совестливые русские интеллигенты – надеясь на лучшее и не желая подумать, что в итоге обретут пробудившиеся мстители. Известно что – новое крепостное право. Тамбовские повстанцы, яростно боровшиеся за землю и волю, а потом жестоко и цинично раздавленные большевистскими карателями, прежде захватывали помещичьи земли, жгли усадьбы, убивали «господ» – вершили то самое возмездие, которое искренне и вдохновенно славил в 1918 году Блок. В «Апреле Семнадцатого» (разумеется, развивая обозначенное в предшествующих Узлах) Солженицын показывает, как трагически связаны прошлое и будущее крестьянской страны, как мужицкая правда сплетается с мужицким грехом, как при утрате ориентиров (привычные ценностные вешки сбила либо исказила революция) растерянность оборачивается яростным (но коротким, беспочвенным, обреченным) народоправством, как исчезают личности (к счастью, не все и не навсегда) и традиционная общность, как прошедшее (со всеми его кривдами, но к ним не сводимое) и грядущее (которое могло бы быть иным) приносятся в жертву безумию настоящего (жизни «одним днем»). Одаривший Каменку неделей тепла и покоя разлив естественно сходит на нет, иной разлив (здесь природа не олицетворяет социальную стихию, но ей противополагается) будет бушевать долго. Несколько месяцев без сторонней сдержки, потом – в неравном противоборстве с железным «новым порядком».
Последний «речной» сюжет привносит ещё один смысловой обертон в соположение стихии и социального катаклизма. «Кончилось волжское судоплаванье. И месяца не пробегали по вольной воде». Грузят зерном гнилые баржи, не справляются со штормами, пароход налетает на устои моста, пристани залиты водой, гниёт рыба, которую теперь дозволено ловить и сдавать оптовикам кому угодно («за отказ принимать – уголовное наказание, а за порчу рыбы – пятикратный штраф»).
Волга, разумеется, оставаясь собой (шторма и в прежние годы бушевали, и крушения случались), оказывается по-новому опасной и враждебной. «При крупном повороте корабля есть такая команда: “Одерживай!” <���…> А если не одерживать – пароход будет кружиться на месте или идти по ломаной.
Вот так и в политике. Эти два месяца – никто не одерживал», – рассуждает Гордей Польщиков, невольно используя древнюю метафору «государство – корабль, правитель – кормчий». Понятно, что не реку винит купец и судовладелец в то и дело случающихся бедствиях, но всё пореволюционное бытие воспринимается им как бушующая стихия, свирепо играющая кораблём без капитана. Нет надежды на правительство, но нет и того единения деловых людей, что могло бы выправить ход корабля. (Кто-то вроде бы соглашается, но «как-то нехотя», кто-то переводит капитал за границу, и с ними у русского купца Польщикова дружбы быть не может.) «Или – опять нам в оппозицию? Спасать Россию помимо правительства, – так кому ж это по силам?» Но если позволить кораблю державы пойти ко дну (как баржам на Волге), то в тлен уйдёт и твоё дело. Твоё богатство. «По-русски, конечно, и так: засвистит судьба Соловьём-разбойником (которого Андозерская разглядела в Ленине. – А. Н. ), погибать – так и погибать!
А – сын, дочь? жена?
Всегда, сколько помнил, жил Польщиков с ощущением своей силы: силы тела, силы соображения, знаний и силы денег». Солженицын наделил волжанина именем с отчетливой семантикой, да еще и напоминающем о двух по-разному «зарвавшихся» купцах – самодуре Гордее Торцове и выламывающемся из своего сословия Фоме Гордееве. Гордость Польщикова была законной (и даже достойной), пока было на что опереться, пока настоящий шторм не налетел. Теперь гордиться нечем: «…началась такая подвижка – такая подвижка всего – уже ощущал Польщиков недохват силы – на всё, на всё.
Стал – не хозяин своей жизни.
Тряска пойдёт – и эту девочку тоже он не удержит» (109).
Девочка – Ликоня. Их с женатым Польщиковым беззаконная любовь мерцающими лирическими миниатюрами освещает всю крутоверть «Марта…», а в «Апреле…» обречённо истаивает. Для Польщикова загадочная утончённая красавица становится избыточной роскошью, а верная своему всепоглощающему, все установления рушащему чувству Ликоня и прежде «прав» на возлюбленного не предъявляла. В «Марте…» тринадцать глав, так или иначе (большей частью – полностью) посвящённых Ликоне; в «Апреле…» – лишь две (25, 162). [27]Последние строки письма Ликони Польщикову (последняя её «нота» в «Красном Колесе») таинственно вторит выводу, к которому уже пришёл адресат (и которым «Зореньку» пока пугать не стал): «Что же с нами будет? В этих бурях (вспомним волжские шторма. – А. Н. ) я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.
Ой, не кончится это всё добром. Это – худо кончится» (162).
Может показаться, что именно разгулявшаяся историческая стихия размётывает героев. Варсонофьев напоминает только что нашедшим друг друга Ксенье и Сане об опасности, которой грозит любви центробежная энергия революция: «Дай Бог, чтоб обстоятельства вас не разъединили.
И это была – холодная правда, о которой они и знали, и боялись, и хотели бы не знать» (180). Но это не вся правда. Обстоятельства, безусловно, могут развести любящих (даже если те напряжённо сопротивляются), но могут их и не развести. Люди вправе не подыгрывать обстоятельствам, не принимать их как непреодолимую данность – им не заказано вести себя иначе, чем Ковынёв и Польщиков. (А уж что из того получится – иная история.) При всех различиях «сильного» купца и «слабого» писателя оба и прежде были не достойны (если угодно – не вполне достойны) женщин, которые их полюбили. Минимализируя в «Апреле…» эти «романические» линии, намекая, что два любовных сюжета приблизились к обрыву (хотя кто знает, какие нежданные встречи и разлуки выпадут персонажам «Красного Колеса» в последние дооктябрьские месяцы, в пору гражданской войны и многие годы спустя), Солженицын отнюдь не хочет сказать, что в пору исторических потрясений всякая «личная жизнь» сходит на нет. Напротив. Порукой тому «апрельские» истории двух главных (интимно дорогих автору) героев повествованья – Георгия Воротынцева и Сани Лаженицына.
После того как Воротынцев уходит от Калисы «на революцию» (сам о том ещё не догадываясь), как некогда на войну (М-17: 241), его сюжетная линия в Третьем Узле ведётся так, будто и не было семейной драмы, метания меж двумя женщинами, нечаянного короткого успокоения с третьей: Воротынцев думает только о настигшей страну беде и своём долге. В «Апреле…» же, когда общая ситуация стала ещё опасней, поиск выхода – ещё мучительней, необходимость действия – ещё насущней, жизнь буквально отбрасывает героя в прошлое, уныло и оскорбительно воспроизводя в могилёвских интерьерах томительные октябрьские объяснения с женой – ссоры, примирения, срывы, укоризны, требования любви и поклонения. Каждый раз ни к чему не приводящие и всегда угрожающие скорыми повторениями старых ходов. Тех же по сути, но всё более непереносимых. Воротынцевский сюжет в Четвёртом Узле развёрнут в пятнадцати главах. [28]И только в одной – заключающей Узел (и в известной мере всё повествованье) – Воротынцев свободен от того, что он называет «кишкомотательством» и «тягомотиной» (136).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: