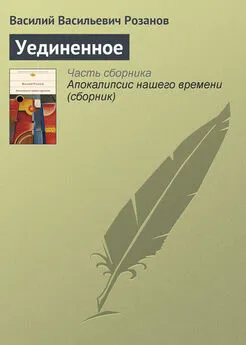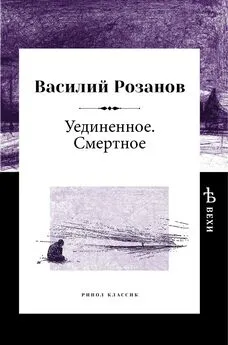Василий Розанов - Уединенное
- Название:Уединенное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-29082-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Розанов - Уединенное краткое содержание
Книга Розанова «Уединённое» (1912) представляет собой собрание разрозненных эссеистических набросков, беглых умозрений, дневниковых записей, внутренних диалогов, объединённых по настроению.
В "Уединенном" Розанов формулирует и свое отношение к религии. Оно напоминает отношение к христианству Леонтьева, а именно отношение к Христу как к личному Богу.
До 1911 года никто не решился бы назвать его писателем. В лучшем случае – очеркистом. Но после выхода "Уединенное", его признали как творца и петербургского мистика.
Уединенное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Между тем мне в голову не приходило, что дело идет о конституции. До такой степени, что когда я пошел домой, то только с этой мыслью, что дня на три, а может – дней на пять, можно отдохнуть от писания статей. Пришел домой и сказал это, и сказал, что завтра и послезавтра не надо идти в редакцию. Сообразно этому на завтра я велел приготовить себе белье, и отправился на Знаменскую в бани, лежать на полке в горячем пару, «отложив все попечения» (моя в своем роде «херувимская»)… И вечером что-то возился около бумаг, монет и около чая.
Вдруг послезавтра узнаю, что «вчера шли по Невскому с красными флагами»!!!.. единственный и первый раз в русской истории, при «благосклонном сочувствии полиции»… Единственная минута, единственное ощущение, единственное переживание.
Ведь я же это понимаю.
О, да!!!
Но я «пролежал в пару». У меня есть затяжность души: «событием» я буду – и глубоко, как немногие, – жить через три года, через несколько месяцев после того, как его видел. А когда видел — ничего решительно не думал о нем. А думал (страстно и горячо) о том, что было еще три года назад. Это всегда у меня, с юности, с детства.
Народы, хотите ли я вам скажу громовую истину какой вам не говорил ни один из пророков…
– Ну? Ну?.. Хх…
– Это – что частная жизнь выше всего.
– Хе-хе-хе!.. Ха-ха-ха!.. Ха-ха!..
– Да, да! Никто этого не говорил; я – первый… Просто, сидеть дома и хотя бы ковырять в носу и смотреть на закат солнца.
– Ха, ха, ха…
– Ей-ей: это – общее религии… Все религии пройдут, а это останется: просто – сидеть на стуле и смотреть вдаль.
(23 июля 1911).
Боже, Боже, зачем Ты забыл меня? Разве Ты не знаешь, что всякий раз, как Ты забываешь меня, я теряюсь.
(опыты).
…Я разгадал тетраграмму, Боже, я разгадал ее. Это не было имя как «Павел», «Иоанн», а был зов: и произносился он даже тем же самым индивидуумом не всегда совершенно (абсолютно) одинаково, а чуть-чуть изменяясь в тенях, в гортанных придыханиях… И не абсолютно одинаково — разными первосвященниками. От этой нетвердости произношения в конце концов «тайна произнесения его» и затерялась в веках. Но, поистине, благочестивые евреи и до сих пор иногда произносят его, но только не знают – когда. Совершенно соответствует моей догадке и то, что «кто умеет произнести тетраграмму – владеет миром», т. е. через Бога. В самом деле, тайна этого зова заключается в том, что Бог не может не отозваться на него, и «является тут» со всем своим могуществом. Тенями проходит в самосознании евреев и тайна, что не только им Бог нужен, но что и они Богу нужны. Отсюда – этнографическая и религиозная гордость; и что они требуют у Бога, а не всегда только просят Его …
Но все это заключено в зове-вздохе… Он состоял из одних гласных с придыханиями.
Толстой прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь… Это ему и на ум никогда не приходило.
Никакого страдания; никакого «тернового венца»; никакой героической борьбы за убеждения; и даже никаких особенно интересных приключений. Полная пошлость.
Да, – приключения «со своими идеями»… Ну, уж это – антураж литературный, и та же пошлость, только вспрыснутая духами.
Мне кажется, Толстого мало любили, и он это чувствовал. Около него не раздалось, при смерти, и даже при жизни, ни одного «мучительного крика вдруг», ни того «сумасшедшего поступка», по которым мы распознаем настоящую привязанность. «Все было в высшей степени благоразумно»; и это есть именно печать пошлости.
Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали. Миллион лет прошло, пока моя душа выпущена была погулять на белый свет: и вдруг бы я ей сказал: ты, душенька, не забывайся и гуляй «по морали».
Нет, я ей скажу: гуляй, душенька, гуляй, славненькая, гуляй, добренькая, гуляй как сама знаешь. А к вечеру пойдешь к Богу.
Ибо жизнь моя есть день мой, и он именно мой день, а не Сократа или Спинозы.
(вагон).
Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе; например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат.
Но и «сидеть на месте» хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел: но у него было в душе столько движения, что от «сиденья» его двинулись миры.
«Счастье в усилии», говорит молодость.
«Счастье в покое», говорит смерть.
«Все преодолею», говорит молодость.
«Да, но все кончится», говорит смерть.
(Эйдкунен – Берлин, вагон).
Даже не знаю, через «Ѣ» или «е» пишется «нравственность».
И кто у нее папаша был – не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее – ничегошеньки не знаю.
(о морали. СПб. – Киев, вагон).
Мережковский всегда строит из чужого материала, но с чувством родного для себя. В этом его честь и великодушие.
Отчего идеи мои произвели на Михайловского впечатление смешного, и он сказал: «Это как у Кифы Мокиевича»; а на Мережковского – впечатление трагического, и он сказал: «Это такое же бурление, как у Ницше, это – конец или во всяком случае страшная опасность для христианства». Почему? Мережковский (явно) понял сильными честным умом то, чего Михайловский не понял и по бессилию и по недобросовестности ума, – ума ленивого, чтобы проработать чужие темы, темы не своего лагеря. Между тем «семья» и «род», на которых у меня все построено, Мережковскому еще отдаленнее и ненужнее, чем Михайловскому; даже враждебны Мережковскому.
Но Мережковский схватил душой – не сердцем и не умом, а всей душой – эту мою мысль, уроднил ее себе, сопоставил с миром христианства, с зерном этого мира – аскетизмом; и постиг целые миры. Таким образом, он «открыл семью» для себя, внутренно открыл, – под толчком, под указанием моим. И это есть в полном значении «открытие» его, новое для него, вполне и безусловно самостоятельное его открытие (почему Михайловский не открыл?). Я дал компас, и, положим, сказал, что «на западе есть страны». А он открыл Америку. В этом его уроднении с чужими идеями есть великодушие. И Бог его наградил.
(Луга – Петербург, вагон).
О, мои грустные «опыты»… И зачем я захотел все знать. Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся…
(1911).
«Человек о многом говорит интересно, но с аппетитом – только о себе» (Тургенев). Сперва мы смеемся этому выражению, как очень удачному… Но потом (через год) становится как-то грустно: бедный человек, у него даже хотят отнять право поговорить о себе. Он не только боли, нуждайся, но… и молчи об этом. И остроумие Тургенева, который хотел обличить человека в цинизме, само кажется цинично.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: