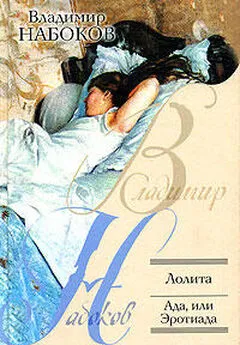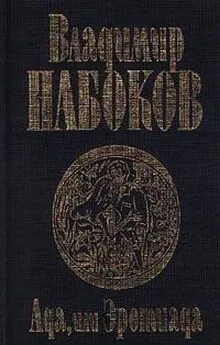Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти
- Название:Ада, или Радости страсти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Аттикус»b7a005df-f0a9-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-09823-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Ада, или Радости страсти краткое содержание
Создававшийся в течение десяти лет и изданный в США в 1969 году роман Владимира Набокова «Ада, или Радости страсти» по выходе в свет снискал скандальную славу «эротического бестселлера» и удостоился полярных отзывов со стороны тогдашних литературных критиков; репутация одной из самых неоднозначных набоковских книг сопутствует ему и по сей день. Играя с повествовательными канонами сразу нескольких жанров (от семейной хроники толстовского типа до научно-фантастического романа), Набоков создал едва ли не самое сложное из своих произведений, ставшее квинтэссенцией его прежних тем и творческих приемов и рассчитанное на весьма искушенного в литературе, даже элитарного читателя. История ослепительной, всепоглощающей, запретной страсти, вспыхнувшей между главными героями, Адой и Ваном, в отрочестве и пронесенной через десятилетия тайных встреч, вынужденных разлук, измен и воссоединений, превращается под пером Набокова в многоплановое исследование возможностей сознания, свойств памяти и природы Времени.
Ада, или Радости страсти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В те безжалостно жаркие июльские дни Ада любила сидеть на прохладном рояльном стуле, деревянном, выкрашенном под слоновую кость, за покрытым белой клеенкой столом в залитой солнцем музыкальной гостиной и, раскрыв любимый ботанический атлас, в красках переносить на кремовую бумагу какой-нибудь редкий цветок. Она могла, скажем, выбрать прикинувшуюся насекомым орхидею и с замечательным мастерством увеличить ее. А не то скрестить один вид с другим (сочетание не открытое, но возможное), внося в них удивительные мелкие изменения и искажения, казавшиеся, при том что исходили они от столь юной и столь скудно одетой девочки, почти нездоровыми. Падавший сквозь высокое окно длинный отлогий солнечный луч поблескивал в граненом стакане, в цветной водице, на жестяном ящичке с красками; она легко выписывала глазок или дольки губы, счастливая сосредоточенность изгибала кончик языка в уголку ее рта, и мнилось, что под пристальным взглядом солнца поразительное черно-сине-коричневое дитя само имитирует цветок, называемый «Венериным зеркалом». Тонкое, привольное платьице ее имело сзади вырез столь глубокий, что всякий раз, как она выгибала спину, склоняя голову набок и поводя выступающими лопатками – озирая с воздетой кистью влажное свершение или тылом левого запястья смахивая с виска прядь волос, – Ван, придвигавшийся к ее стулу так близко, как только смел, мог видеть ее худощавую ensellure [55]до самого куприка и вдыхать тепло всего ее тела. Сердце его бухало, одна жалкая рука глубоко утопала в кармане штанов – где ему приходилось для сокрытия своего состояния таскать кошелек с полудюжиной золотых десятидолларовых монет, – он склонялся над нею, склонявшейся над своей работой. Он позволял своим пересохшим губам легчайшей поступью блуждать по теплым ее волосам и горячей шее. То было самое сладостное, самое сильное, самое сокровенное ощущение из всех когда-либо испытанных мальчиком; ничто в убогом любострастии прошлой зимы не повторяло этой пушистой нежности, этой безнадежности вожделения. Он так и замер бы навсегда на маленьком бугорке блаженства посредине ее шеи, если бы она навсегда осталась склоненной – и если бы бедный мальчик мог и дальше сносить восторг прикосновения этого холмика к его завосковелому рту, не начиная в обезумелом самозабвении к ней притираться. Живая алость ее оттопыренного уха и постепенное оцепенение кисти были единственными – пугающими – знаками того, что она сознает возрастающий напор его ласк. Молча он убирался к себе, запирался, хватал полотенце, расстегивался и призывал образ, только что им оставленный, образ столь же безопасный и яркий, сколь пламя, заслоненное чашей ладони, – уносимое во тьму лишь затем, чтобы в варварском раже избавиться там от него; погодя временно пересохший Ван возвращался с потрясенными чреслами и вялыми икрами в чистоту прохваченной солнцем комнаты, где уже глянцевитая от пота девочка продолжала выписывать цветок: диковинный цветок, изображавший яркую бабочку, в свой черед изображавшую скарабея.
Если бы единственной заботой Вана было облегчение отроческого плотского пыла, облегчение каким угодно способом, если бы, иными словами, ни о какой любви не шло и речи, наш юный друг сумел бы умерить – хотя бы на то злополучное лето – двусмысленность и гнусность своего поведения. Но поскольку Ван любил Аду, вынужденно сложное высвобождение этого пыла ничего само по себе не завершало; или, вернее, завершалось тупиком, ибо оставалось неразделенным; ибо в ужасе утаивалось; ибо не имело возможности истаять в последующем несравнимо большем блаженстве, которое, подобно мглистому пику за лютым горным проходом, обещало стать верной вершиной его опасных отношений с Адой. Во всю ту пришедшуюся на разлив лета неделю или две, несмотря на каждодневные поцелуи, что перепархивали, будто бабочки, с этих волос на эту шею, Ван чувствовал, что стоит от нее даже дальше, чем был в канун того дня, когда по воле случая губы его прижались к какому-то вершку ее кожи, почти не воспринятому чувственно в ветвящемся лабиринте шаттэльской яблони.
Но суть природы – рост и движение. Как-то под вечер он подобрался к ней сзади – там же, в музыкальной, – гораздо бесшумнее, чем когда-либо прежде, потому что пришел босиком, и маленькая Ада, обернувшись, закрыла глаза и приникла своими губами к его в свежем, как роза, поцелуе, заворожившем и заморочившем Вана.
– А теперь беги, – сказала она, – быстро-быстро, я занята.
И поскольку он глупо мешкал, она мазнула его мокрой кистью по горящему лбу, как бы «осенив крестным знаменьем», по древнему эстотскому обычаю.
– Мне нужно закончить эту штуку, – сказала она, указывая тонкой пурпурно-фиалковой кистью на помесь Ophrys scolopax с Ophrys veenae, – а уже пора одеваться, потому что Марине приспичило, чтобы Ким нас щелкнул, как мы с тобой держимся за ручки и ухмыляемся (ухмыляясь и вновь поворачиваясь к своему отвратительному цветку).
17
Самый толстый из найденных в библиотеке словарей сообщал в статье «Губа»: «Любая из двух складок плоти, окружающих отверстие».
«Милейший Эмиль», как Ада называла Monsieur Littre, сообщал следующее: «Partie extérieure et charnue qui forme le contour de la bouche… Les deux bords d’une plaie simple» (мы без затей беседуем нашими ранами, и раны порождают потомство). «…C’est le membre qui lèche». Милейший Эмиль!
Маленькую, но пухлую русскую энциклопедию «губа» заинтересовала лишь в качестве территориального округа в древней Ляске да еще полярной заводи.
Их губы обладали абсурдным сходством складки, тона и текстуры. У Вана верхняя напоминала формой летящую прямо на вас морскую ширококрылую птицу, тогда как нижняя, полная и хмурая, придавала его обычному выражению оттенок жестокости. Ни малейших признаков этой жестокости не замечалось в губах Ады, но вырезанная в форме лука верхняя и великоватая, пренебрежительно выпяченная, матово-розовая нижняя повторяли рот Вана в женском ключе.
В поцелуйную пору (две нездоровых недели беспорядочных долгих объятий) как бы некая странно стыдливая ширма отъединила наших детей от бесновавшихся тел друг дружки. Впрочем, прикосновения и отклики на прикосновения все равно пробивались сквозь нее, будто далекая дрожь отчаянных призывов. Неустанно, неотступно и нежно Ван терся своими губами о ее – вправо, влево, вниз, вверх, жизнь, смерть, – отчего этот жаркий цветок раскрывался, являя контраст между невесомой нежностью наружной идиллии и грубым обилием потаенной плоти.
Были и другие поцелуи.
– Мне хочется попробовать твой рот изнутри, – сказал Ван. – Господи, как хотел бы я стать Гулливером величиною с гнома и исследовать эту пещеру.
– Могу предложить язык, – ответила она и предложила.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: