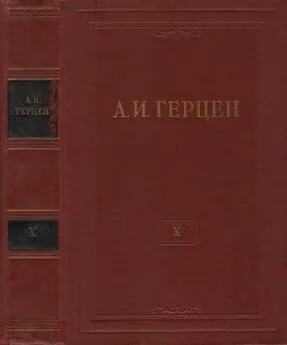Александр Герцен - Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
- Название:Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
Второй том собрания сочинений А. И. Герцена содержит статьи и фельетоны 1841–1846 годов, написанные до отъезда за границу в 1847 году, а также дневник 1842–1845 годов. Произведения, помещенные в настоящем томе, характеризуют напряженную идейную работу Герцена в 40-е годы, когда передовая русская мысль начала упорные поиски правильной революционной теории. Герцен явился одним из виднейших участников этих исканий.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 2. Статьи и фельетоны 1841–1846. Дневник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наука, выросшая вдали от жизни, за стенами аудиторий, держалась большею частию в отвлечениях, говорила свысока, языком трудным и в то же время неопределенным, которым она столько же высказывалась, сколько скрывалась; в ее распущенные, незамкнутые категории вносили всё, что хотели, придавая грубому материалу, захваченному с улицы, современный лоск и отливая его в логические формы. Такое неустройство продолжаться не может; время таких себяобольщений прошло; теперь труднее безнаказанно и шутя плавать по поверхности науки, играть ее истинами; ее основы глубоки, а глубь тянет в себя; надобно опуститься с головою или выходить подобру-поздорову на берег и оставить науку и себя в покое; оно, может быть, и лучше, кому это возможно. Блажен, говорит Пушкин,
Кто, хладный ум угомонив,
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге.
Отойти еще легко; но действительно трудно становится долго продержаться Колоссом Родосским – одна нога на берегу, другая на другом: берега все более и более раздвигаются. Да и зачем эта двойственность? «Будь то или другое», – как говорил Иоанн. В этом отношении скажем смело: хвала дерзкому языку, которым с некоторого времени заговорила наука нашего века. Это кончит поскорее все недоразумения. Ей не нужно скрываться, у ней совесть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонников современной мысли непременно отойдет – что за беда? Кто отойдет, тот был чужой, тот был обманут. Оставлять что-либо недоговоренным – значит оставлять возможность ложного пониманья; надобно, напротив, предупреждать всякое двусмысленное выражение – этого требует честность в науке. Таков язык Спинозы. Можно с ним ни в чем не соглашаться, но нельзя не остановиться с уважением перед этой мужественной и открытой речью, и вот разгадка, почему его вдесятеро более ненавидели, чем других мыслителей, говоривших то же, что и он.
Говорить языком откровенным может всякий благородный человек, имеющий право говорить; но говорить языком совершенно простым бывает не скажу – невозможно, но трудно при известных обстоятельствах. Современно слагающееся воззрение на жизнь сложно; взятое с боя, выработанное в мучительной борьбе, в отрицаниях и лишениях, неконченное, наконец, оно трудно уловляется в какой-нибудь маленький кодекс, в несколько общих мест, громких словами и скудных содержанием; может быть, оно трудно уловляется оттого, что его требования и выше и многостороннее требований прежних моралистов и юристов. Несмотря на это, новое воззрение имеет не только свою определенность, но и свой инстинкт, который никогда не обманет то, кто совестливо выработал себе смысл его и кто понятое оставил не в отвлечении, а принял в мозг и кровь. При всем этом можно бы было просто передавать многое, если б просто понимали; но главное препятствие в том, что каждый является с готовыми убеждениями, воспитавши в себе возможность спокойно укладывать в голове самые крутые противоречия; что делать с такими умами? Задача тут изменяется, вопрос становится не педагогический, а патологический. Кто не все исторгнул из груди, не оправданное разумом, тот не свободен и может дойти до того, что отвергнет весь разум. Беранже говорит, что его муза прекапризная: за малейший кончик галуна начинает беситься и кричать [51]. Его муза права: дело не в сажени и не в вершке галунов, а в галунах вообще.
Обернитесь куда хотите, в психическом быту нашем – вы везде найдете эту борьбу сознания с привычкой, мысли с рассказом, логики с преданием, ума с делом, философии с историей. За примерами далеко ходить нечего.
Люди испокон века или, по крайней мере, с Троянской войны толкуют о нравственной независимости, о стремлении к ней, о ее достоинстве и прелестях, однако не вкушают этих прелестей, потому что они несравненно более привязаны (хоть и не хвастаются этим) к авторитетам, к внешним ведениям, к указаниям, нежели к нравственной свободе. Любовь к нравственной свободе – чисто платоническая, идеальная; по ней вздыхают, о ней говорят в ученых предисловиях и в академических речах, ей поклоняются пламенные души, но на благородной дистанции. Людям страшна ответственность самобытности; любовь их к нравственной независимости удовлетворяется вечным ожиданием, вечным стремлением; они скромно рвутся, воздержно стремятся к предмету желаний и чувствительно верят, что их желания осуществятся если не в настоящем, то в будущем; такая вера утешает и мирит их с настоящим – чего же лучше? Вспомним при этом грубых и диких средневековых рыцарей, с своим гордым и воинственным видом слушающих благочестивого капеллана и его поучения о смирении, о нищете. Они слушают и глубоко горюют о том, что все это не исполняется… а если б?.. не так бы пришлось горевать им. Милая, наивная логика!
С своей стороны, любовь к умственному авторитету, вовсе не платоническая, а обыкновенная, супружеская d’un mariage de raison [52], такая любовь, в которой мечтами и поэзией пожертвовано для домашних удобств, для экономии, для порядка, для лени. Лень и привычка – два несокрушимые столба, на которых покоится авторитет. Авторитет представляет, собственно, опеку над недорослем; лень у людей так велика, что они охотно сознают себя несовершеннолетними или безумными, лишь бы их взяли под опеку и дали бы им досуг есть или умирать с голоду, а главное – не думать и заниматься вздором. Правда, люди боятся умственной неволи, особенно когда пилюля не позолочена, когда она груба, нагла; но они вдвое больше боятся отсутствия авторитета, т. е. простоты, шири, которая тогда делается; они знают, что человек слаб, того и смотри – избалуется.
Внешний авторитет несравненно удобнее: человек сделал скверный поступок – его пожурили, наказали, и он квит, будто и не делал своего поступка; он бросился на колени, он попросил прощения – его, может, и простят. Совсем другое дело, когда человек оставлен на самого себя: его мучит унижение, что он отрекся от разума, что он стал ниже своего сознания, ему предстоит труд примириться с собою не слезливым раскаянием, а мужественною победою над слабостью. Но победы эти не легки. Первое дело, за которое принимаются люди, отбросив один умственный авторитет, – принятие другого, положим, лучшего, но столько же притеснительного, а если забыть его содержание, то и не лучшего, по очень простой причине, потому что и люди сделались лучше, следовательно, отношение осталось то же. Китаец, которому дадут пятьсот бамбуков за нарушение какой-нибудь из десяти тысяч церемоний, столько же ими огорчится, сколько француз, которого драму запретят играть самым учтивейшим образом [53]. Даже такие привилегированные эманципаторы, как Вольтер, умея кощунствовать рад религией, оставались просто идолопоклонниками своих вымыслов и призраков [54].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: