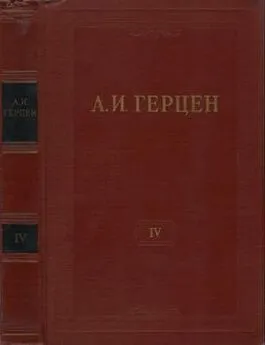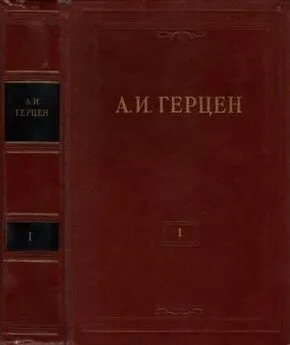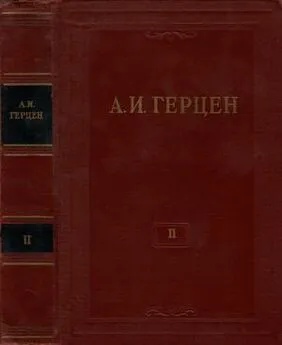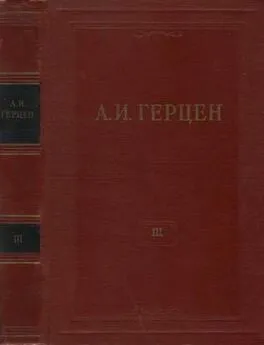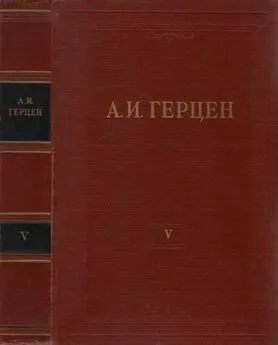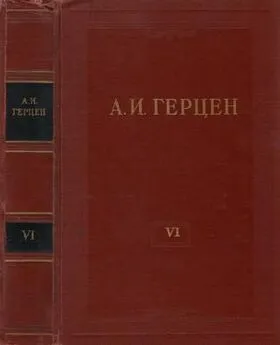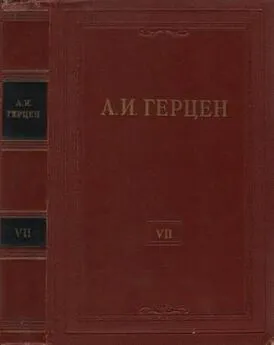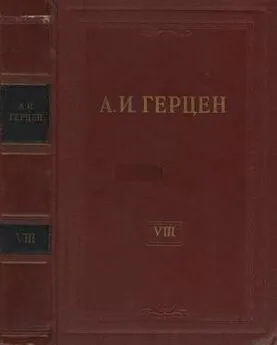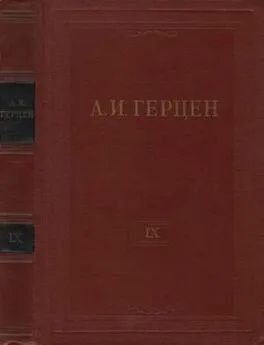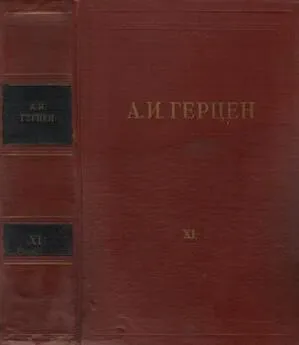Александр Герцен - Том 4. Художественные произведения 1842-1846
- Название:Том 4. Художественные произведения 1842-1846
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1955
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 4. Художественные произведения 1842-1846 краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
В настоящий том включены художественные произведения Герцена 1841–1846 годов, последних лет жизни писателя в России: роман «Кто виноват?», повести «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов», отрывок «Мимоездом».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 4. Художественные произведения 1842-1846 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хандра Бельтова, впрочем, не имела ни малейшей связи с известным разговором за шестой чашкой чаю; он в этот день встал поздно, с тяжелой головой; с вечера он долго читал, но читал невнимательно, в полудремоте, – в последние дни в нем более и более развивалось какое-то болезненное не по себе , не приходившее в ясность, но располагавшее к тяжелым думам, – ему все чего-то недоставало, он не мог ни на чем сосредоточиться; около часу он докурил сигару, допил кофей, и, долго думая, с чего начать день, со чтения или с прогулки, он решился на последнее, сбросил туфли, но вспомнил, что дал себе слово по утрам читать новейшие произведения по части политической экономии, и потому надел туфли, взял новую сигару и совсем расположился заняться политической экономией, но, по несчастию, возле ящика с сигарами лежал Байрон; он лег на диван и до пяти часов читал – «Дон-Жуана». Когда он посмотрел на часы, окончивши чтение, он очень удивился, что так поздно, позвал своего камердинера, велел приготовить одеваться как можно скорее; впрочем, и удивление и приказ были больше инстинктивны, потому что он никуда не сбирался, и ему было совершенно все равно – шесть ли часов утра или двенадцать ночи. Одевшись с тою тщательностью и чистотою, к которой мы привыкаем, долго живши за границей, и от которой скоро отвыкаем в провинции, он, твердый в намерении заняться политической экономией, лег на то же место и развернул какую то английскую брошюру об Адаме Смите. А камердинер развернул небольшой стол и начал его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорий преспокойно накрыл стол, поставил графин с водою и бутылку с лафитом, поставил на другой стол графинчик с абсинтом и сыр, потом спокойно осмотрел сделанное и, убедившись, что все поставлено на месте, отправился за супом и через минуту принес – только не суп, а письмо.
– Откуда? – спросил Бельтов, не сводя глаз с брошюрки об Адаме Смите.
– Должно быть, из чужих краев: штемпель не наш, да еще объявление на посылку.
– Дай сюда, – и Бельтов бросил брошюру. – «От кого б это было, – думал он, – не понимаю; из Женевы… разве… нет – скорее… нет…»
Конечно, легче было бы распечатать письмо и на конце четвертой странички прочитать, от кого оно, нежели отгадывать. Без сомнения. Отчего же все делают подобные гадания над письмом? Это – тайна сердца человеческого, основанная, впрочем, на том, что лестно человеку признать себя догадливым и проницательным.
Наконец, Бельтов снял пакет и стал читать письмо; с каждой строчкой его лицо делалось бледнее, и слезы навернулись на глазах его.
Письмо это было от племянника m-r Жозеф; он извещал Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благородного существа так, как текла, тихо и ясно, так и потухла. Он был много лет главным учителем в сельской школе, недалеко от Женевы. Дни два ему нездоровилось, на третий казалось лучше; едва переставляя ноги, он отправился в учебную залу; там он упал в обморок, его перенесли домой, пустили ему кровь, он пришел в себя, был в полной памяти, простился с детьми, которые молча стояли, испуганные и растерянные, около его кровати, звал их гулять и прыгать на его могилу, потом спросил портрет Вольдемара, долго с любовью смотрел на него и сказал племяннику: «Какой бы человек мог из него выйти… да, видно, старик дядя лучше знал… Отошли этот портрет к Вольдемару после… адрес у меня в портфельке, в старом, на котором портрет Вашингтона… Жаль Вольдемара… очень жаль…»
«Тут, – писал племянник, – больной начал бредить, лицо его приняло задумчивое выражение последних минут жизни; oн велел себя приподнять и, открывши светлые глаза, хотел что-то сказать детям, но язык не повиновался. Он улыбнулся им, и седая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашем сельском кладбище между органистом и кистером».
Бельтов прочитал письмо, положил его на стол, отер слезу, прошелся по комнате, постоял у окна, снова взял письмо, прочел его от доски до доски. «Удивительный человек! Удивительный человек! – бормотал он сквозь зубы. – Пресчастливый человек, умел довольствоваться, умел трудиться, быть полезным на всяком месте, куда судьба его ни бросала… Теперь на всем земном шаре у меня мать и более никого… никого… Хоть изредка дойдет, бывало, весть о старике, и хорошо, ну, просто я бывал доволен сознанием, что он существует. И его нет! Фу, как тяжело все это! Право, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить».
– Суп простынет, Владимир Петрович, – доложил камердинер, с участием видевший, что содержание письма было не из приятных.
– Григорий, – спросил Бельтов, – помнишь учителя, который жил у нас?
– Как не помнить-с швейцарца то-с.
– Он скончался, – сказал Бельтов и отвернулся от Григорья, чтоб скрыть волнение.
– Царство ему небесное! – прибавил Григорий. – Добрый был человек и с нашим братом прост; мы вот недавно говорили с Максим Федоровым, что у маменьки служит в буфетчиках, т. е. о вас. Признаться доложить, Максим Федорович не надивится на вас; я, по вашей милости, насмотрелся на разные нации и на тамошние порядки, ну, а он больше все в губернии проживал, ему и удивительно. «Конечно, говорит, добрая душа у них, врожденная, барынина. Ну и, т. е., и от учителя было чему заняться; бывало, я помню, перед деревенским мальчишкой, который поклонится, приказывает Владимиру Петровичу картузик снять; такой же-де образ и подобие божие есть».
Бельтов промолчал и грустно принялся за суп.
Весть о смерти Жозефа естественным образом вызвала в памяти Бельтова всю его юность, а за нею и всю жизнь. Он вспомнил поучения Жозефа, как жадно внимал он им, как верил и как все оказалось в жизни совсем не так, как в словах Жозефа, – и… странное дело! – все говоренное им было прекрасно, истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Он сравнивал себя тогдашнего и себя настоящего; ничего не было общего, кроме нити воспоминаний, связывавших эти два разные лица. Тот – полный упований, с религией самоотвержения, с готовностию на тяжкие подвиги, на безвозмездные труды, и этот , уступивший внешним обстоятельствам, без надежд, ищущий чего-нибудь для развлечения. Когда Григорий принес портрет с почты, Бельтов разрезал поскорее клеенку и с большим нетерпением вынул его… Он переменился в лице, взглянув на черты, бывшие некогда его чертами, он чуть не отвернулся от них. Тут было представлено все, что бродило у него в голове. Как свежо, светло было отроческое лицо это, шея раскрыта, воротник от рубашки лежал на плечах, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробегала по устам и взору, – той неопределенной задумчивости, которая предупреждает будущую мощную мысль; «как много выйдет из этого юноши», – сказал бы каждый теоретик, так говорил мсье Жозеф, – а из него вышел праздный турист, который, как за последний якорь, схватился за место по дворянским выборам в NN. «Тогда, – думал Бельтов, глядя с упреком на портрет, – тогда мне было четырнадцать лет, теперь мне за тридцать – и что впереди? Одна серая мгла, скучное, однообразное продолжение впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаний, сколько встреч… и все окончилось праздностью и одиночеством…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: