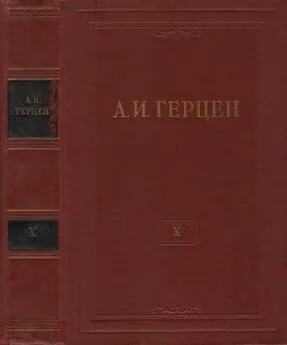Александр Герцен - Том 7. О развитии революционных идей в России
- Название:Том 7. О развитии революционных идей в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 7. О развитии революционных идей в России краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
Седьмой том сочинений А. И. Герцена содержит произведения 1850–1852 годов. Помещенные в томе статьи появились впервые на иностранных языках и были обращены в первую очередь к западноевропейскому читателю, давая ему глубокую и правдивую информацию о России, русском народе, освободительном движении и культуре. В томе помещены также статья «Michel Bakounine» («Михаил Бакунин») и два открытых письма Герцена, относящихся к пережитой им в эти годы семейной драме.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. О развитии революционных идей в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сухощавые, тонконогие евреи, в черных бархатных ермолках, в коротких штанах, нитяных чулках и низких башмаках в самую холодную пору балтийской зимы; немецкие негоцианты, шествующие с величием сенаторов, что побуждает вас свернуть с дороги, чтобы избежать с ними встречи… В казино, в клубах только и разговоров, что о монополиях, предоставленных городу в 1600 году, о вольностях, дарованных в 1450 году, о последних нововведениях 1701 года…
Балтийские немцы, сыны древней цивилизации, много веков тому назад отстали от великого исторического движения; отныне они приобрели неизменный склад, они остались какими были, ничем с тех пор не обогатившись; в своих идеях и делах они установили порядок, правила и меру, чтобы никогда от них не отступать. Поэтому-то они несомненно должны ненавидеть расплывчатость, склонность к преувеличению и беспорядок, царящие не только в русских законах, но даже в нравах.
Мы отнюдь не достигли определенной устойчивости, мы ищем ее, мы стремимся к общественному строю, больше отвечающему нашей природе, но временно остаемся в навязанном нам силой положении, ненавидя его и примиряясь с ним, желая от него избавиться и терпя его против воли. Они же, напротив, подлинные консерваторы; они многое потеряли и опасаются потерять остальное. Мы можем только выиграть, нам терять нечего. Мы повинуемся по принуждению; в законах, которые нами управляют, мы видим запреты, препоны и нарушаем их, когда можем или смеем, не испытывая при этом никаких угрызений совести. А они принимают настолько всерьез одну часть закона, что нарушить ее было бы в их собственных глазах преступлением. Эта часть закона служит опорой другой, нелепость которой очевидна для всех.
У них – незыблемая мораль, у нас – моральный инстинкт.
Их преимущество перед нами – в выработанных ими позитивных правилах; они принадлежат к великой европейской цивилизации. Наше преимущество перед ними – в нашей могучей силе, в известной широте надежд. Там, где их останавливает сознание, нас останавливает жандарм. Арифметически слабые, мы уступаем; их же слабость – алгебраическая, она в самой формуле.
Их глубоко оскорбляет наша беспечность, наши повадки, пренебрежение к правилам приличия, похвальба нашими полуварварскими, полуизвращенными страстями. Нам же они смертельно скучны своим буржуазным педантизмом, подчеркнутым пуризмом и безукоризненной пошлостью поведения.
Наконец, человек, тратящий более половины своих доходов, считается у них блудным сыном, расточителем. А у нас на человека, который проживает только свои доходы, смотрят как на чудовищного скрягу… Эта антитеза между Россией и балтийскими провинциями, столь резкая, почти преувеличенная, как мы сами уже отметили, собственно говоря, существует между всем славянским миром и Европой.
Здесь однако та разница, что если в славянском мире есть черты западной цивилизации на его поверхности, а в мире европейском есть черты чистейшего варварства в его основании, то среди псковских крестьян нет и следа цивилизации, а балтийские немцы прикрывают собой отнюдь не однородное варварское население, а население, находящееся в упадке и совершенно разнородное.
Германо-латинские народы создали две истории, сотворили два мира во времени и в пространстве. Они дважды себя изжили. Весьма возможно, что в них сохранилось довольно энергии и сил для третьей метаморфозы – но она не может произойти в рамках существующих общественных форм, которые находятся в явном противоречии с революционной мыслью. Как мы уже видели, для того чтобы великие идеи европейской цивилизации могли осуществиться, они должны пересечь океан и найти землю, где было бы поменьше руин.
Наоборот, все прошлое славянских народов носит характер почина, вступления в права хозяина, бурного роста и проявления способностей. Они только еще влились в могучий поток истории. Они никогда не обладали развитием, сообразным их природе, их гению, их стремлениям. Каковы же эти стремления? Мы увидим это дальше. Скажу лишь, что они не являются четкой теорией, но живут в народе, в его песнях и преданиях, что они существовали задолго до того в habitus [25]всех славянских племен. Скорее это инстинкт, естественное влечение, постоянное, сильное, но неясное, к которому примешиваются национальные и религиозные домыслы, нежели обдуманная, определенная концепция.
История славян скудна.
За исключением Польши, славяне скорее подлежат ведению географии, чем истории. Есть славянский народ, который жил подлинной жизнью всего лишь в продолжение одной битвы – войны таборитов.
Есть другой, который только наметил свои границы, поставил вехи, приготовил себе место и насильственно объединил на время шестую часть земного шара, гордо избрав ее полем своей деятельности…
…Имеют ли какое-либо право на будущее эти народы, почти неприметные в прошлом и почти неизвестные в настоящем?
Мы отнюдь не думаем, что будущее принадлежит тем народам, которые ничего не создали и лишь много страдали.
Но будущее, без сомнения, может принадлежать тем из них, кто, не по утвержденному праву и не по приглашению смело занимает место на великом соборе деятельных народов, кто торопит начало своей истории, кто вмешивается во все дела, пожираемый жаждой деятельности, кто захватывает воображение всех и устремляется очертя голову в главный поток истории.
Во внезапном появлении некоторых народов есть нечто, перед чем останавливается мыслитель: он в раздумье, он испытывает какое-то беспокойство, будто чувствует новую подземную руду, глухое брожение, новую силу, стремящуюся пробить земную кору и вырваться наружу, будто он слышит в неведомой дали близящийся шаг исполинов.
Такова роль России со времени Петра I.
Не прошло и ста лет с тех пор, когда Франция еще оспаривала у русских царей право на титул императора, теперь же дело уже не в титуле, но в факте русского господства, которое простирается до Рейна [26], доходит до Босфора, а с другой стороны достигает Тихого океана.
Что означают эти высокомерные притязания, эти ничтожные уступки?
Быть может, то гунны, устремившиеся к Риму, чтобы покончить с ним и тут же затеряться среди трупов? Или турки, желающие вновь испытать, созрело ли западное христианство для могилы?
Наконец, быть может, это катастрофа, катаклизм, туча саранчи, ужасный случай, произошедший в антракте, который отделяет два мира друг от друга, – одно из тех мрачных привидений, которые ускоряют развязку? А возможно, это и есть начало нового порядка вещей; не уподобляются ли здесь славяне древним германцам по отношению к отходящему в прошлое миру?
Достаточно поставить такой вопрос, и все, что можно сказать по этому поводу, представляло бы огромный интерес. А если набраться смелости и пойти дальше – до утверждения, что некоторые из этих смутных стремлений славянских народов совпадают с революционными стремлениями народных масс в Европе, что в этом отдаленном хоре слышны аккорды, находящие отзвук в скрытых глубинах старого мира? А если доказать, что у северных варваров и варваров «домашних» есть общий враг – старый феодальный монархический строй и общая надежда – социальная революция?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: