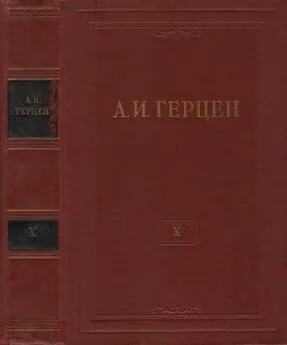Александр Герцен - Том 7. О развитии революционных идей в России
- Название:Том 7. О развитии революционных идей в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 7. О развитии революционных идей в России краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
Седьмой том сочинений А. И. Герцена содержит произведения 1850–1852 годов. Помещенные в томе статьи появились впервые на иностранных языках и были обращены в первую очередь к западноевропейскому читателю, давая ему глубокую и правдивую информацию о России, русском народе, освободительном движении и культуре. В томе помещены также статья «Michel Bakounine» («Михаил Бакунин») и два открытых письма Герцена, относящихся к пережитой им в эти годы семейной драме.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. О развитии революционных идей в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Европа не разрешила противоречия между личностью и государством, но она все же поставила этот вопрос. Россия подходит к проблеме с противоположной стороны, но и она ее не решила. С появления перед нами этого вопроса и начинается наше равенство. У нас больше надежд, ибо мы только еще начинаем, но надежда – лишь потому надежда, что она может не осуществиться.
Не надобно слишком доверяться будущему – ни в истории, ни в природе. Не каждый зародыш достигает зрелости, не все, что живет в душе, осуществляется, хотя при других обстоятельствах все могло бы развиться.
Возможно ли вообразить, чтобы способности, которые находят у русского народа, могли развиться в обстановке рабства, безропотной покорности и петербургского деспотизма? Долгое рабство – факт не случайный, оно, конечно, отвечает какой-то особенности национального характера. Эта особенность может быть поглощена, побеждена другими, поможет победить и она. Если Россия способна примириться с существующим порядком вещей, то нет у нее впереди будущего, на которое мы возлагаем надежды. Если она и дальше будет следовать петербургскому курсу или вернется к московской традиции, то у нее не окажется иного пути, как ринуться на Европу, подобно орде, полуварварской, полуразвращенной, опустошить цивилизованные страны и погибнуть среди всеобщего разрушения.
Не нужно ли было бы постараться всеми средствами призвать русский народ к сознанию его гибельного положения, – пусть даже в виде опыта, – чтобы убедиться в невозможности этого? И кто же иной должен был это сделать, как не e те, кто представляли собою разум страны, мозг народа, – те, с чьей помощью он старался понять собственное положение? Велико их число или мало – это ничего не меняет. Петр I был один, декабристы – горстка людей. Влияние отдельных личностей не так ничтожно, как склонны думать; личность – живая сила, могучий бродильный фермент, – даже смерть не всегда прекращает его действие. Разве не видели мы неоднократно, как слово, сказанное кстати, заставляло опускаться чашу народных весов, как оно вызывало или прекращало революции?
Что вместо этого делали славянофилы? Они проповедовали покорность эту первую из добродетелей в глазах греческой церкви, эту основу московского царизма. Они проповедовали презрение к Западу, который один еще мог осветить омут русской жизни; наконец, они превозносили прошлое, а от него, напротив, нужно было избавиться ради будущего, отныне ставшего общим для Востока и Запада.
Совершенно ясно, что надо было противодействовать подобному направлению умов, и полемика действительно развертывалась все шире. Она продолжалась до 1848 года, достигнув высшего своего напряжения к концу 1847 года, как будто ее участники предчувствовали, что через несколько месяцев ни о чем нельзя будет спорить в России и что борьба эта побледнеет перед значительностью событий.
Противоположные мнения особенно ярко выразились в двух статьях. Одну, под названием «Юридическое развитие России», опубликовал «Современник», в Петербурге. Другую – пространный ответ славянофила – напечатал «Москвитянин». Первая статья представляла собою ясное и сильное изложение темы, основанное на углубленном изучении русского права; она развивала мысль о том, что личное право никогда не удостаивалось юридического определения, что личность всегда поглощалась семьей, общиной, а позже государством и церковью. Неопределенное положение личности вело согласно автору, к такой же неясности в других областях политической жизни. Государство пользовалось этим отсутствием определения личного права, чтобы нарушать вольности; таким образом, русская история была историей развития самодержавия и власти, как история Запада является историей развития свободы и прав.
В возражении «Москвитянина», почерпнувшем свои доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянском формализме, опасность, которую представляет собой славянофильство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещенная греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя. Князь воплощает сострадание, благожелательство и свободную личность. Каждый, отрекаясь от личной независимости, одновременно спасал ее в представителе личного принципа – в государе:
Этот дар самоотречения и еще более великий дар – не злоупотреблять им – создавали, по мнению автора, гармоническое согласие между князем, общиной и отдельной личностью, – дивное согласие, которому автор не находит иного объяснения, кроме чудесного присутствия святого духа в византийской церкви.
Если славянофилы хотят представлять серьезное воззрение, реальную сторону общественного сознания, наконец, силу, стремящуюся найти себе реальное воплощение в русской жизни, если они хотят чего-то большего, нежели археологические диспуты и богословские споры, то мы имеем право потребовать от них отказа от этого безнравственного словесного блуда, от этой извращенной диалектики. Мы говорим «словесный блуд», ибо они грешат им вполне сознательно.
Что означают сии метафорические решения, выворачивающие вопрос наизнанку? К чему эти образы, эти символы вместо дел? Разве славянофилы затем изучали хроники Восточной империи, чтобы привить себе эту византийскую проказу? Мы не греки времен Палеологов и не станем спорить об opus operans и opus operatum [49], когда в наши двери стучится неведомое, необъятное будущее.
Их философский метод не нов, лет пятнадцать тому назад подобным же образом изъяснялось правое крыло гегельянцев; нет такой нелепости, которую не удалось бы втиснуть в форму пустой диалектики, придав ей глубоко метафизический вид, Нужно только не знать или забыть, что соотношение между содержанием и методом – иное, нежели между свинцом и формой для отливки пуль, и что лишь один дуализм не понимает их взаимозависимости. Говоря о князе, автор лишь пространно пересказал общеизвестное определение, которое Гегель дал рабству в «Феноменологии» («Herr und Knecht» [50]). Но он умышленно позабыл, как Гегель расстается с этой низшей ступенью человеческого сознания. Стоит отметить, что сей философский жаргон, относящийся по форме к науке, а по содержанию – к схоластике, встречается и у иезуитов. Монталамбер, отвечая на запрос по поводу жестокостей, учиненных папской властью в тюрьмах Рима, сказал: «Вы говорите о жестокостях папы, но он не может быть жестоким, его положение воспрещает ему это; наместник Иисуса Христа, он может только прощать, только быть милосердным, и в самом деле, папы всегда прощают. Святой отец может быть опечален, может молиться за грешника, но не может быть неумолимым», и т. д. На вопрос, применяют ли пытки в Риме, отвечают, что папа милосерд; на замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, отвечают: «Мы спасли это право, увенчав им князя». Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову. Едва ли приличествует ссылаться на религию, но еще менее того – на религию обязательную. Каждый автор имеет неоспоримое право верить во что ему вздумается; но прибегать к богословским доказательствам в ученом споре с человеком, который не говорит о своей религии, – значит нарушать приличия. К чему прятаться за неприступной крепостью, малейшее нападение на которую кончается тюрьмой?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: