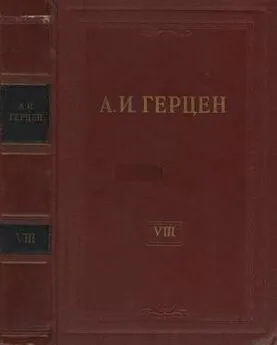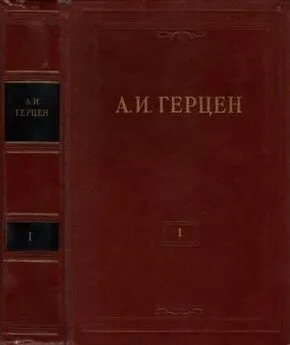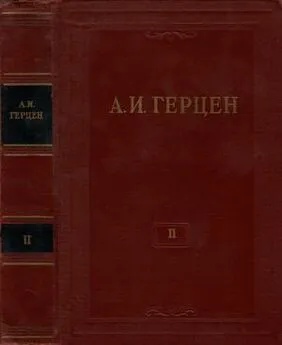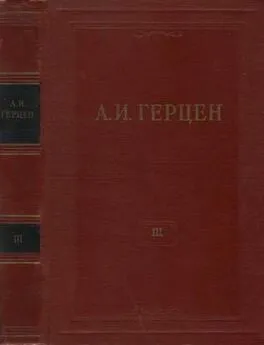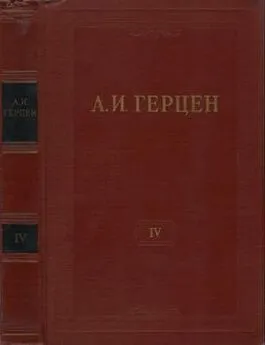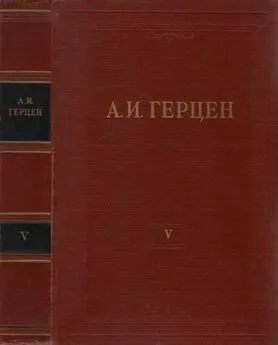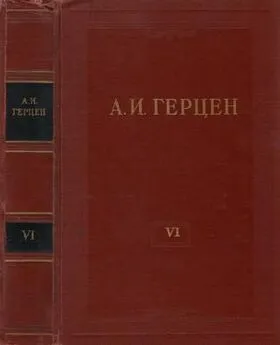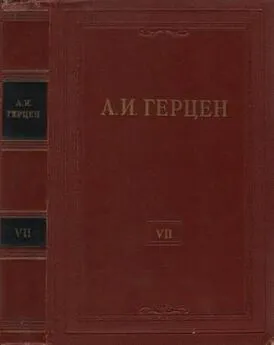Александр Герцен - Том 8. Былое и думы. Часть 1-3
- Название:Том 8. Былое и думы. Часть 1-3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АН СССР
- Год:1956
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Том 8. Былое и думы. Часть 1-3 краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя.
В томах VIII–XI настоящего издания печатается крупнейшее художественное произведение Герцена – его автобиография «Былое и думы».
В восьмой том вошли части I–III, посвященные детству, университетским годам и первой ссылке писателя.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 8. Былое и думы. Часть 1-3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Один пустой мальчик, допрашиваемый своей матерью о маловской истории под угрозою прута, рассказал ей кое-что. Нежная мать, аристократка и княгиня, бросилась к ректору и передала донос сына как доказательство его раскаяния. Мы узнали это и мучили его до того, что он не остался до окончания курса.
История эта, за которую и я посидел в карцере, стоит того, чтоб рассказать ее.
Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним.
– Сколько у вас профессоров в отделении? – спросил как-то попечитель у студента в политической аудитории.
– Без Малова девять, – отвечал студент. Вот этот-то профессор, которого надобно было вычесть для того, чтоб осталось девять, стал больше и больше делать дерзостей студентам; студенты решились прогнать его из аудитории. Сговорившись, они прислали в наше отделение двух парламентеров, приглашая меня прийти с вспомогательным войском Я тотчас объявил клич идти войной на Малова, несколько человек пошли со мной; когда мы пришли в политическую аудиторию, Малов был налицо и видел нас.
У всех студентов на лицах был написан один страх: ну, как он в этот день не сделает никакого грубого замечания. Страх этот скоро прошел. Через край полная аудитория была непокойна и издавала глухой, сдавленный гул. Малов сделал какое-то замечание, началось шарканье.
– Вы выражаете ваши мысли, как лошади, ногами, – заметил Малов, воображавший, вероятно, что лошади думают галопом и рысью, – и буря поднялась; свист, шиканье, крик: «Вон его, вон его! Pereat!» [82]Малов, бледный, как полотно, сделал отчаянное усилие овладеть шумом, и не мог; студенты вскочили на лавки. Малов тихо сошел с кафедры и, съежившись, стал пробираться к дверям; аудитория – за ним, его проводили по университетскому двору на улицу и бросили вслед за ним его калоши. Последнее обстоятельство было важно, на улице дело получило совсем иной характер; но будто есть на свете молодые люди 17–18 лет, которые думают об этом.
Университетский совет перепугался и убедил попечителя представить дело оконченным и для того виновных или так кого-нибудь посадить в карцер. Это было неглупо. Легко может быть, что в противном случае государь прислал бы флигель-адъютанта, который для получения креста сделал бы из этого дела заговор, восстание, бунт и предложил бы всех отправить на каторжную работу, а государь помиловал бы в солдаты. Видя, что порок наказан и нравственность торжествует, государь ограничился тем, что высочайше соизволил утвердить волю студентов и отставил профессора. Мы Малова прогнали до университетских ворот, а он его выгнал за ворота. Vae victis [83]с Николаем; но на этот раз не нам пенять на него. Итак, дело закипело. На другой день после обеда приплелся ко мне сторож из правления, седой старик, который добросовестно принимал à la lettre, что студенты ему давали деньги на водку, и потому постоянно поддерживал себя в состоянии более близком к пьяному, чем к трезвому. Он в обшлаге шинели принеc от «лехтура» записочку – мне было велено явиться к нему в семь часов вечера. Вслед за ним явился бледный и испуганный студент из остзейских баронов, получивший такое же приглашение и принадлежавший к несчастным жертвам, приведенным мною. Он начал с того, что осыпал меня упреками, потом спрашивал совета, что ему говорить.
– Лгать отчаянно, запираться во всем, кроме того, что шум был и что вы были в аудитории, – отвечал я ему.
– А ректор спросит, зачем я был в политической аудитории, а не в нашей?
– Как зачем? Да разве вы не знаете, что Родион Гейман не приходил на лекцию, вы, не желая потерять времени по пустому, пошли слушать другую.
– Он не поверит.
– Это уж его дело.
Когда мы входили на университетский двор, я посмотрел на моего барона, пухленькие щечки его были очень бледны, и вообще ему было плохо.
– Слушайте, – сказал я, – вы можете быть уверены, что ректор начнет не с вас, а с меня; говорите то же самое с вариациями, вы же и в самом деле ничего особенного не сделали. Не забудьте одно: за то, что вы шумели, и за то, что лжете, – много-много вас посадят в карцер; а если вы проболтаетесь да кого-нибудь при мне запутаете, я расскажу в аудитории, и мы отравим вам ваше существование.
Барон обещал и честно сдержал слово.
Ректором был тогда Двигубский, один из остатков и образцов допотопных профессоров или, лучше сказать, допожарных, т. е. до 1812 г. Они вывелись теперь; с попечительством князя Оболенского вообще оканчивается патриархальный период Московского университета. В те времена начальство университетом не занималось, профессора читали и не читали, студенты ходили и не ходили, и ходили притом не в мундирных сертуках à l’instar [84]конноегерских, a в разных отчаянных и эксцентрическнх платьях, в крошечных фуражках, едва державшихся на девственных волосах. Профессора составляли два стана, или слоя, мирно ненавидевшие друг друга: один состоял исключительно из немцев, другой – из не-немцев. Немцы, в числе которых были люди добрые и ученые, как Лодер, Фишер, Гильдебрандт и сам Гейм, вообще отличались незнанием и нежеланием знать русского языка, хладнокровием к студентам, духом западного клиентизма, ремесленничества, неумеренным курением сигар и огромным количеством крестов, которых они никогда не снимали. He-немцы, с своей стороны, не знали ни одного (живого) языка, кроме русского, были отечественно раболепны, семинарски неуклюжи, держались, за исключением Мерзлякова, в черном теле и, вместо неумеренного употребления сигар, употребляли неумеренно настойку. Немцы были больше из Геттингена, не-немцы – из поповских детей.
Двигубский был из не-немцев. Вид его был так назидателен, что какой-то студент из семинаристов, приходя за табелью, подошел к нему под благословение и постоянно называл его «отец ректор». Притом он был страшно похож на сову с Анной на шее, как его рисовал другой студент, получивший более светское образование. Когда он, бывало, приходил в нашу аудиторию или с деканом Чумаковым, или с Котельницким, который заведовал шкапом с надписью «Materia Medica» [85], неизвестно зачем проживавшим в математической аудитории, или с Рейсом, выписанным из Германии за то, что его дядя хорошо знал химию, – с Рейсом, который, читая по-французски, называл светильню – bâton de coton [86], яд – рыбой (poisson) [87], а слово «молния» так несчастно произносил, что многие думали, что он бранится, – мы смотрели на них большими глазами, как на собрание ископаемых, как на последних Абенсерагов, представителей иного времени, не столько близкого к нам, как к Тредьяковскому и Кострову, – времени, в котором читали Хераскова и Княжнина, времени доброго профессора Дильтея, у которого были две собачки: одна вечно лаявшая, другая никогда не лаявшая, за что он очень справедливо прозвал одну Баваркой [88], а другую Пруденкой [89].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: