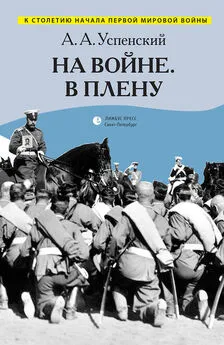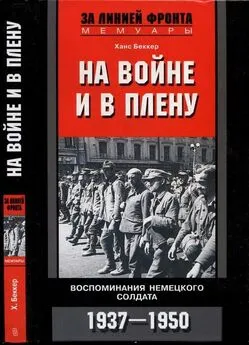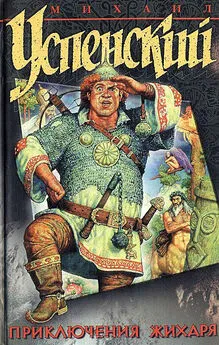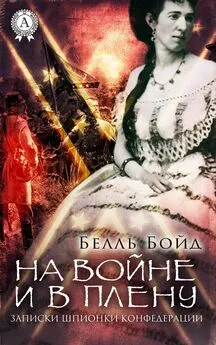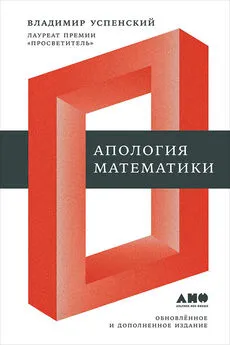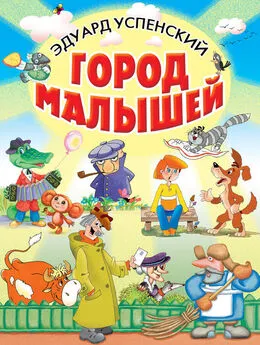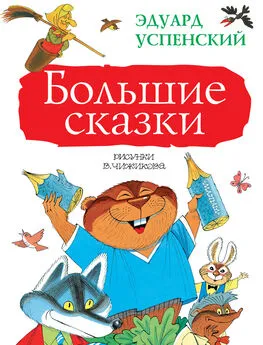Александр Успенский - На войне. В плену (сборник)
- Название:На войне. В плену (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2015
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0678-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Успенский - На войне. В плену (сборник) краткое содержание
Александр Арефьевич Успенский родился 11 (23) августа 1872 года. Окончил Литовскую духовную семинарию, но вскоре после этого поступил рядовым в 108‑й Саратовский полк на правах вольноопределяющегося. Оттуда был направлен в Виленское пехотное училище, окончив которое получил чин подпрапорщика. Первую мировую войну капитан Успенский встретил командиром роты 106‑го Уфимского полка. В его славном воинском пути ярким эпизодом выделяется героическая защита моста через реку Алле, когда отряд под командой Успенского прикрывал отступление русской армии. За этот бой Александр Успенский получил чин подполковника, однако когда вышел приказ, он уже был в плену.
В первой книге «На войне» автор подробно рассказывает о нелегком ратном труде русских солдат на полях Первой мировой войны. Вторая часть, «В плену», посвященная жизни военнопленных, поистине уникальна, так как подобных и столь подробных свидетельств в литературе на русском языке больше нет.
На войне. В плену (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Много горячих речей было сказано за этой последней общей трапезой офицеров-уфимцев! Вспоминали разные эпизоды боев, убитых и раненых. Особенно все вспоминали первого нашего убитого в бою – героя штабс-капитана М. К. Попова. Потом, разбившись по отдельным кружкам, долго в дружеской беседе «отводили душу».
На эту встречу Нового года и ужин были приглашены латыши из Риги, представители латышского Красного Креста, привезшие полку подарки. Старший из них был популярный член Государственной Думы, а главное – близкий друг нашего героя-уфимца капитана Баллода (впоследствии – генерал, создатель и главнокомандующий латышской армии).
Ранним утром полк построился «покоем», причем были розданы ротам подарки. Громко, от души кричали «ура» друзьям-латышам за эти подарки!
В это время уже влились в ряды полка запасные солдаты и с ними производились усиленные занятия, пока были в резерве.
X. Отход с Ангерапской позиции (28 января 1915 года) в составе 20‑го корпуса
Бои с окружающими нас немцами (29 января – 2 февраля): Грюнвальд – Носсавен – Виштынец. Сувалки.
6 января было у нас в резерве Богослужение, Крещенский парад и водосвятие. Как раз в это время и у немцев в Гумбинене происходил парад по случаю приезда туда кайзера. Вильгельм II побывал в окопах своих войск армии Бейлова, в нашем районе военных действий, совершенно близко от наших окопов, о чем мы тогда и не подозревали!
В это именно время у них уже начал приводиться в исполнение знаменитый план Гинденбурга по освобождению Восточной Пруссии от русских войск; передвигались, перевозились и концентрировались постепенно войска из Западной Германии в Восточную Пруссию. Слухи об этих передвижениях немецких войск усиливались.
Около 20 января, когда мы уже вернулись из резерва на свои позиции, опять в район 20‑го корпуса, наша воздушная разведка определенно доносила о непрерывном движении немецких поездов с войсками со стороны Кенигсберга к Гумбинену, и что все города и местечки к северо-западу от Гумбинена переполнены войсками.
В одно ясное зимнее утро мы сами в бинокль заметили движение немецкой колонны по дороге из Даркемена на Гумбинен. Я помню наше возмущение, когда на донесение об этом движении соседним батареям они не открыли огня… Так строг был «секретный» приказ свыше «беречь снаряды»!
О прибывающих к немцам новых войсках у нас почему-то говорили, что это прибыл Баварский корпус.
На самом деле у немцев в это время происходило следующее.
Всю зиму они готовились нанести нашей армии удар, чтобы совершенно очистить Восточную Пруссию от врага. В конце января перегруппировка немецких сил к новому большому наступлению была закончена и немцы перешли в наступление на правом своем фланге, причем они разбили нашу 57‑ю дивизию, которая ожесточенно защищалась и заняла Иоганенсбург.
Десятая русская армия в это время состояла из четырех корпусов: 3‑го армейского, 3‑го сибирского, 20‑го и 26‑го армейских корпусов. Группировка немецких сил на нашем правом фланге происходила под завесой кавалерии почти незаметно. Немцы сосредоточили на флангах большие силы, состоявшие частью из новых наборов, частью из сборных частей, переброшенных с западного фронта. Всей этой группой четырех армий (Эйхгорн, Бейлов, Фальк, Лицман и отдельных отрядов императора Вильгельма (против Лыка), Бутлера и кавалерии генерала N. командовал генерал Гинденбург (см. схему № 1) [2].
Несмотря на тревожные донесения наших летчиков, у нас все было по-старому, продолжалось «окопное сиденье», новые части к нам не прибывали, число верст на каждый полк по фронту нисколько не уменьшалось… Наоборот, в это время все распоряжения и приказы высшего начальства дышали мирной жизнью казармы: то и дело объявлялось об устройстве нар в окопах, о резке порций, об отхожих местах и т. п. Сведений о том, что делается у противника, к нам в окопы совершенно не поступало; только из штабов доходили слухи, а между тем мы сами, своей недалекой разведкой, узнавали, что немцы что-то готовят на нашем фронте и готовят в широком масштабе… Наконец нам подтвердили это и захваченные в плен два немецких поляка, отправленные нами в штаб корпуса.
Особенно участились в это время полеты к нам немецких аэропланов; они все чаще и смелее забирались к нам в тылы, сбрасывая бомбы на наши штабы, небольшие резервы и артиллерийские парки, а иногда и на наши передовые окопы.
Какое неприятное чувство вызывало у нас появление и звук мотора высоко летящего над нами немецкого аэроплана! Хотя у нас в то время и не было зенитных орудий для стрельбы по аэропланам, и немцы это знали, но все-таки их авиаторы не решались спускаться ниже, и поэтому бросаемые ими с большой высоты в окопы бомбы редко попадали в цель. Гораздо хуже были эти взрывы для тех штабов и парков, которые помещались в домах: убитых и раненых там бывало больше.
Наконец, 26 января дошло до нас официальное сообщение о прорыве немцами левого фланга нашей Десятой армии у города Бяла.
О дальнейших событиях, походах, боях и гибели Уфимского полка и всего 20‑го корпуса я пишу, придерживаясь хронологии полкового дневника боевых действий.
Здесь не могу не вспомнить странное, прямо чудесное явление (около того времени) блестящего креста на небе. В один зимний поздний вечер, когда солнце давно уже зашло, солдаты обратили мое внимание на необыкновенно яркие темно-красные полосы на северо-восточной части неба. Полосы эти переливались, словно дрожали, вспыхивая еще более ярким красным светом, как это бывает летом после грозы («сполохи») и неожиданно из этих полос определенно образовался яркий крест, посиял багровым светом и исчез! За ним исчезли и полосы. Небо стало опять темным…
Виденье этого креста, да еще в стороне России (замеченное многими на фронте), дало повод говорить, что это значит?! Были разные предсказатели, но большинство объяснило это явление креста на небе будущей нашей победой над немцами: «Сим победиши!» На самом деле это не сбылось: крест – символ спасения, но и вместе – страдания! По крайней мере, нам, уфимцам, и вообще 20‑му корпусу крест этот возвестил тяжкие страдания!
27 января около десяти часов утра по телефону было передано приказание начальника дивизии генерал-лейтенанта Джонсона о готовности обозов к отступлению и о возможности отхода всей Десятой армии с занимаемых позиций. Указаны тыловые пути. О времени отступления указаний нет, но сказано, что надо быть готовым к нему во всякое время, даже и днем.
28 января в двенадцать часов дня новой телефонограммой отменялось отступление. Приказано командиром корпуса генералом Булгаковым «держаться на занимаемых позициях во что бы то ни стало»!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: