Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори
- Название:Том 1. Тихие зори
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00403-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 1. Тихие зори краткое содержание
Эта книга открывает самое полное собрание сочинений выдающегося мастера лирической прозы, классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972). После десятилетий забвения и запретов наше многотомное издание впервые в таком значительном объеме представит российским читателям все многообразие творческого наследия «крамольного» писателя, познакомит с десятками его произведений, никогда в России не издававшихся или изданных лишь в последние годы. Это романы Зайцева, лучшие из его повестей и рассказов, романизированные жизнеописания, три книги паломнических странствий, избранная духовная проза, мемуары, дневники, письма.
В первый том вошли ранние рассказы и повести писателя из четырех его книг, роман «Дальний край». В приложениях публикуются первые рецензии о «новой» прозе Зайцева В. Брюсова и З. Гиппиус.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 1. Тихие зори - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Они не знали. Лежа, глядя в облака, вдыхая горячее благоухание, он рассказывал про Теодориха; про троичность, богословие тех лет, про странный момент, когда чуть не было поборано христианство; и сейчас на него тянуло теми мыслями, раскалывавшими людей на лагери.
«Мог ли бы я бросить нашу теперешнюю жизнь – простым монахом жить тогда, отстаивая Бога?» Казалось – мог бы.
Потом он задремал. Одним глазом видел, как тонкая Машура протянулась, выставила ножку, обняла Игнатия Игнатьича. «Какое счастье!» – сказали ее глаза. Она тоже прикорнула.
Вечером же, когда снова они сидели втроем в кафе, под открытым небом, и сбоку блестели огни, а сверху звезды светили, он прочел в газете о смерти госпожи Тумановой, в Венеции. Это его не удивило и не огорчило. Напротив, сердце стало биться чаще, ясней, как будто все исполнялось по его желанию.
Константин Андреич знал, что пора трогаться, но медлил. Машура с женихом уехали, он был один, и светлое, просторное настроение не покидало его. Даже возросло со дня смерти Тумановой. Теперь их разговор на Лидо был еще дороже, иными были воспоминания о России, Наташе. Все, что ему было мило, запрозрачнело за иным горизонтом.
Равенна цвела; сладко пахло в воздухе липой; во дворе альберго вился виноград; голуби болтали на черепицах, пачкая крыши белым; иногда влетали в коридор к Константину Андреичу.
Решив ехать на другой день, он прощался с городом; под вечер взял коляску, поехал мимо гробницы Данте, по малым, бедным улицам, к S. Apollinaro Nuovo, где так ветх потолок и круглая башня в таких трещинах, что можно вздохнуть, как о родном: скоро развалится! Рухнут мозаики – ряды святых мужчин и женщин, и негде будет показывать портрет Юстиниана.
За городом началась равнина; дорога обсажена яблонями, по ее белой пыли катят велосипедисты-равеннаты; снова пшеница.
Светло-серое небо. Вдали – уродливый, жалкий контур: гибнущая церковь. Прежде была в черте города, но прошло время, – ее окружили поля: мох и трещины завладели ею.
Путь лежал к другому старцу: св. Аполлинарию в порте. Подъезжая, не увидишь этого порта: давно стал он сушей, море отошло. Святой же Аполлинарий держится. Громоздкий, с круглою башней, выступает он на закате. Вдали пинии маячат.
Оглядев его, постояв перед белыми овечками абсиды, посмотрев саркофаги, Константин Андреич вышел. Наступал вечер.
За шоссе, на лугах косили косцы; низины туманились; и даже горы, видные издали, были невысоки, необидны. Он отошел от коляски, сел. Подперев голову, слушал. Эта страна чужая, но как он близок ей! Удивительна, радостна такая мысль. Открыл глаза. «Да, я в чужой, но и в своей стране, – потому что все страны одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его чувствую».
Тогда косцы, возившиеся с сеном, сами луга, пьяненький кустод, Аполлинарий, Равенна, каменевшая вдали, засветились для него вечной, святой жизнью. «Кажется, могу теперь прилечь, послушать. Не откажет мать, не станет прятаться».
Вечером, поздно, был он у моря. Новый месяц взошел, слабым рогом. Берег был пустынен. Далеко в море зеленел огонь, пинии темнели по берегу плоскими шапками.
Надо было зачерпнуть адриатической воды и плеснуть ею к месяцу: в честь любви, друга, погибшего за нее на этих берегах, женщины, ушедшей с ним; в честь иного – далекого сердца, иной страны.
К осени вернулся он в Россию. Не зная, что будет и куда себя пристроить, он остановился в Москве. Здесь думал кончить дела по продаже крестьянам имения, сбыть деньги куда-нибудь и начать бедное, легкое существование человека, от всего свободного. Но поселившись на дальнем бульваре, в доме Лисицыной, он застрял, вошел в новые связи с людьми, – прожил это время не так, как собирался.
Дом вдовы Лисицыной был небольшой, деревянный, с двумя флигелями; в одном жил Константин Андреич, в другом дама Марианна Николаевна, – самый дом занимал Яшин, доктор. Двор под травой, старые стройки, липы, вязы; через проезд густой бульвар, а сбоку свой сад, тоже заглохлый, разгороженный забором: одна часть флигельская, другая домовая.
Начинался август; стояли хорошие дни – свежей ясности; за бульваром сиял купол; осень, тишина, бедность дворика бросали на все отсвет. Нередко Константин Андреич забирался в этот сад и лежал там – в гамаке или читал. Но читалось мало; больше он глядел в небо, вдыхал вянущий лист, наблюдал клены. На улице шумели пролетки, дети гомонили за забором; часто на дворе бегал мальчик, с ним две девочки. Случалось, они мешали ему криком; но было приятно, что вокруг есть жизнь.
Раз, когда он обычно висел в гамаке, из соседнего сада к нему залетел мяч. Через минуту дети подбежали к забору.
– Будьте добры бросить нам назад, – сказал мальчик. Константин Андреич был весел, ему хотелось шутить.
– А-а, – ответил он, – вы попали на мою территорию, кроме того, вы ранили меня мячом, – теперь ваш мяч мой, пленный ваш мяч.
– Нет, пожалуйста.
– Война, ничего нельзя поделать. Выкуп, выкуп. Мальчик побледнел.
– Конечно, вы сильнее меня. Вы можете не отдать мне мяча, но… вы не имеете права этого делать!
Он прекрасно сверкнул глазами.
Константин Андреич сконфузился. Встал с гамака, поднял мяч, подошел.
– Простите, голубчик, я смеюсь, неужели вы думаете, что я хочу его взять!
У мальчика вздрагивали губы.
– Извольте, вот он. Ну, а кто вы такой, по крайней мере?
– Моя фамилия Яшин.
Константин Андреич познакомился, позвал их к себе; он догадался, что это сын доктора, девочки же – Марианны Николаевны. Говорили о игре в лапту, Константин Андреич рассказывал, как он был в детстве охотником.
– Вы говорите, у вас было маленькое ружье, одноствольное? Попрошу папу купить!
Женя сиял.
– Да, шомпольное. Тогда центральных еще не было.
– А что такое «центральное»?
– Можно на ваших качелях покачаться?
Константин Андреич качал детей на качелях, повел к себе, показывал камушки с Урала, бывшие у него случайно, вообще работал добросовестно, стараясь загладить мяч. Дети нравились ему. Женя хотел быть большим, говорил литературно и с весом; девочки блистали глазами; в этой молодой радости было столько живого, что приходилось покоряться.
Чай пили у него; прощаясь на крыльце, под вечер, он увидел и Яшина: это был человек с высоким лбом, впалыми глазами; суховатый, прямой.
Константин Андреич с ним познакомился.
В вечер, когда он посетил Яшина, у того сидела Марианна Николаевна. На перилах балкона висел студент, бледный, с черными глазами; что-то индусское было в нем.
– Вот, знакомьтесь, – сказал Яшин, – прекрасная Марианна, Константин Андреич, – Пшерва, подходи сюда, что ж ты? Это Пшерва Тетмайер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:







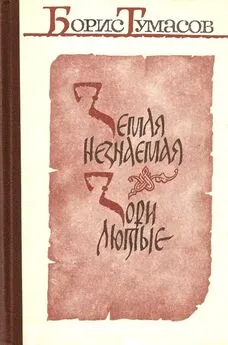

![Борис Зайцев - Далекое [сборник litres]](/books/1077155/boris-zajcev-dalekoe-sbornik-litres.webp)
