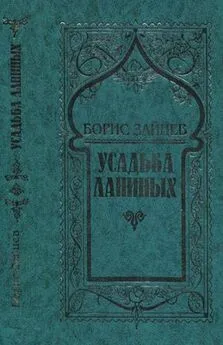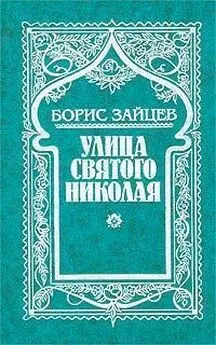Борис Зайцев - Том 3. Звезда над Булонью
- Название:Том 3. Звезда над Булонью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00402-6, 5-268-00427-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Зайцев - Том 3. Звезда над Булонью краткое содержание
Третий том собрания сочинений классика Серебряного века и русского зарубежья Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972) составлен из произведений, разносторонне представляющих творчество писателя эмигрантского периода Это романы «Золотой узор» (1924) и неизвестный российским читателям «Дом в Пасси» (1933), впервые издающаяся в нашей стране книга странствия «Италия» (1923), рассказы и новаторская повесть «Анна» (1928), обозначившая неожиданные реалистические грани таланта выдающегося мастера лирической прозы.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. Звезда над Булонью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обед кончился – появился горбатенький музыкант со скрипкой – г-жа Фрапани явно задавала нам бал. В углу зажгли свечи на елочке, стол отодвинули, и начались танцы – не далекий ли отголосок давних празднеств, справлявшихся здесь же, в садах Лукулла? Танцевали американские барышни, мы, русские, барон, немецкая девица. Позже, в этот же вечер, мы были в гостях у американок. У них было очень натоплено.
Они сидели на кровати, угощали, нас конфетами. Я читал Пушкина – «Для берегов отчизны дальней», а они кивали в знак одобрения. В это время барон сидел в салоне и болтал. Ему хотелось еще выпить и сыграть в карты – но не выходило. Крашеная немка собиралась куда-то: каждый вечер она пропадала – как полагали, довольно таинственно. Говорила же всегда, что «едет на Авентин».
Так начался, Новый 1912 год, и быстро замелькали его дни. В Крещенье итальянцы вновь тряхнули стариной – по всему Риму шлялись банды молодых людей с трубами, трещотками, барабанами. Вой стоял необычайный. На piazza Navona – нечто вроде Вербы. Продавали морских жителей, швырялись серпантинами, орали. Бедных наших американок, забредших туда, окружили римские юноши, и гудели в трубы со всех сторон до изнеможения. Трудно, говорили они, было вырваться. И всю ночь слышали мы эти барабаны, рожки. Это не было плохо – немножко смешно.
А через несколько дней надо было уезжать. По старинному, вековому обычаю пилигримов, заходили мы в последний вечер, с друзьями, к фонтану Треви, ужинали в маленьком ресторанчике, где славится вино Фраскати, и девочка поет со стариком на romanesco, римском диалекте. А потом вышли на поклон фонтану. Бросили монетки в светлый его бассейн – дар Божеству Рима и залог возможности вновь увидеть его. Дамы всплакнули, сидя над водой. Гигантский фонтан шумел звучно, бесконечно.
По пустынным туманным улицам мы возвращались, прощались и целовались на углу via Veneto.
А на заре следующего дня, в туманно-розовом, холодном утре, покинули пансион Фрапани, пинчианский холм – сады Лукулла – и в купе скорого поезда вылетели из Рима, объятого молчаливой и загадочной Кампаньей, чья земля подобна праху, чья душа – душа древних Сивилл, и чья прелесть нераскол-дована. Волнение, печаль, надежда – вот чувства, с которыми покидаешь Рим. Был десятый час, когда я сказал жене, устало лежавшей на диване:
– Чивиттавеккиа. [204]
Налево серо-зеленое море, с оранжевым, далеким парусом – море Энея. Направо скалы, станция, городок. Впереди путь к Чечине и Корнето, пустынный и суровый край, о зверях которого сказал поэт:
Quelle fiere selvagge, che in odio hanno
Fra Cecina e Corneto i luoghi colli. [205]
Riviera di Levante *
Всю ночь ветер выл. Да шумело море, шумом тяжким, мощным. Как полны эти звуки! Они все насыщают. Но приятны. Нравится их безначальность, бесконечность. Вечность.
Распахнувши ставни, видишь крыши итальянские, под черепицею; балкончики, веревки для белья; деревья в садиках и огненные апельсины; вдали же насыпь железнодорожную – за нею море.
«Mar grosso» [206], – скажет Мариэттина, девочка лет пятнадцати, нам услужающая. Значит, ветрено, море надулось, нахохлилось; ухает без перерыва мягкою тяжестью волны о берег.
Через полчаса в комнатках наших – мы снимаем три в нехитром домике синьора Джулио – все уберут, и мы будем пить кофе в столовой, выбеленной известкой, как и все жилье наше. Тюфяки на морской траве взбиты, простыни вытряхнуты в окно Мариэттиной, как взбивают и вытряхивают их в час этот все Кави, все Мариэттины и Марии, и Джульетты, здесь живущие.
Из окна столовой я увижу дворик, дальше сад по взгорью, где копается с лопатой черный итальянец, и над ними, дальше, шире – горы, сплошь в лесах. Облака космами зацепляют за верха. Сумрачно. И благоуханием оттуда веет, сладким благовонием сосны, цветов, и апельсиновых деревьев.
Жена с Мариэттиною отправится сейчас на кухню, через сени, и займется там стряпней, станет жарить котлеты с соусом из помидоров – удивление для итальянцев. Мариэттина, остролицая, с профилем древне-этрусским, изящная по-итальянски, затрещит на жаргоне своем: несколько слов по-русски, несколько по-флорентийски, остальное на смутном наречии gonovese [207]. Они с женой будут смеяться, раздувать очаг, возиться с вертелами в холодноватой кухне. А потом придет бабушка Мариэттины, старуха сгорбленная, с седоватой бороденкой, и с ней без умолку затараторит девочка по-дженовезски.
Я же сяду работать О, как покойны, и как благосклонны эти утра Италии! Можно думать, что сам воздух, солнце, море посылают нам гениев светлых, помогающих и ободряющих.
Когда я окончу, то крутою, темной лесенкой с котами, сыростью, спущусь вниз. Пойду – надо мной будет навес, увитый виноградом; далее розовые стены садиков, у одной из которых статуя св. Франциска, в нише; и узеньким переулочком, перейдя главную улицу Кави нашего, сойду под насыпь к морю.
Здесь, на туманном, в теплых брызгах пляже, хорошо бродить, слегка развеять светлое волнение работы. Пройти по морскому тому песку, что у самых волн, дышать ветром влажным, тепло-оживляющим; в нем задыхаешься, но чувствуешь, как бодрость он наносит, крепость.
Облака разорвутся, глянут клочья лазури; солнце выхватит кампаниллу церкви нашей. Часы на ней, в ярком блеске, два укажут.
Домой, домой! Котлеты с помидорами готовы, и стоит фиаска красного вина.
Обедаем втроем: мы с женою и эмигрантка, с нами живущая. Вернее, мы у ней, в ее квартире. Русские ее, прямые, честные глаза на меня смотрят ровно, грустно. «Не выдаст», – про нее подумаешь. Тяжко ей жить. Все курит. Читает беспрерывно. Много пьет.
А к концу обеда к нам заходит, очень часто, эсер Ерохин, крепкий, круглый, с малыми, простонародными глазами, крепким словом, рукой тяжкою. Коренной, густо заквашенный русак. Наша хозяйка молча ему руку подает, курит, курит все, и пьет, да из-под большого лба глазами ясными все смотрит.
Скоро и он выпьет, и гремит:
– Николашке через три года висеть на перекладине!
Или к жене:
– Ваську Розанова вашего сотру, каналью! Слизь! Живого места не оставлю.
Или, если в настроении потише, то начнет рассматривать с женою карточки детей своих, и станет мягче, нежность в нем проступит.
– Во – Маруся, а во, глядите, Аннушка… Что, видите, какая девочка? А то-то ж… Да. А Ваську Розанова мне не поминайте. Я бы ему, разбойнику…
Если теперь заглянуть вниз, в проулочек, то наверное увидишь русского, в крылатке или куртке, торопливо с палкою шагающего. Это изгнанники спешат узнать на почте, каковы дома дела, нет ли революции случайно, денег не прислали ли, и нет ли просто весточек о близких.
И мы спустимся. Через два дома, в тесненькой конторке старый итальянец разбирает трудные фамилии. Сын, плотный, элегантный и блондинистый, видимо наш «джентльмен», помогает. Джентльмен вежлив, снисходителен. Впрочем, по лире в ручку получает, не сморгнув. Кажется, письма вскрывает и слегка шпионит.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: