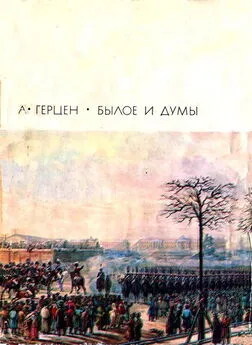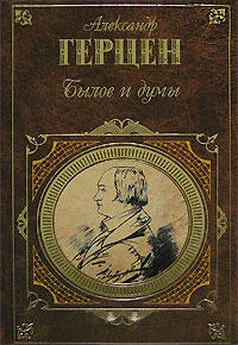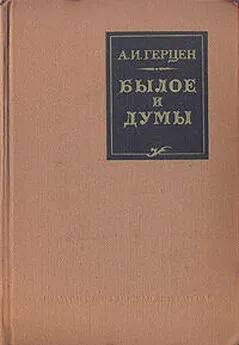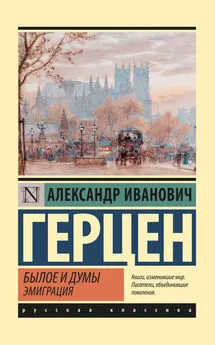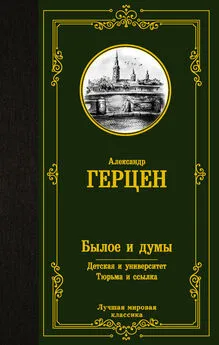Александр Герцен - Былое и думы. Части 1–5
- Название:Былое и думы. Части 1–5
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная Литература
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Былое и думы. Части 1–5 краткое содержание
Автобиографическое сочинение "Былое и думы" Александра Герцена, писателя, философа, публициста, отца русского либерализма, основателя Вольной русской типографии в Лондоне, издателя "Колокола" и просто одного из умнейших людей России, — признанный шедевр мемуарной литературы.
Почти шестнадцать лет Герцен работал над своим главным произведением — автобиографическим романом "Былое и думы". Сам автор называл эту книгу исповедью, "по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум". Но в действительности, Герцен, продемонстрировав художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины XIX века.
В данный том вошли части 1–5.
Вступительная статья Я. Эльсберга
Примечания Н. Ждановского (при участии В. Гурьянова) — к частям 1–3; И. Твердохлебова — к части 4; И. Белявской, Н. Застенкера, Л. Ланского, А. Малаховой, Г. Месяцевой, М. Полякова, И. Птушкиной, З. Цыпкиной — к части 5.
Былое и думы. Части 1–5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Расстояния, делившие наши воззрения и наши темпераменты, обозначились скоро. С первых дней начался спор, по которому ясно было, что мы расходимся во всем. Он был почитатель французского демократического строя и имел нелюбовь к английской, не приведенной в порядок свободе. Он в императорстве видел воспитание народа и проповедовал сильное государство и ничтожность лица перед ним. Можно понять, что были эти мысли в приложении к русскому вопросу. Он был гувернементалист, считал правительство гораздо выше общества и его стремлений и принимал императрицу Екатерину II почти за идеал того, что надобно России. Все это учение шло у него из целого догматического построения, из которого он мог всегда и тотчас выводить свою философию бюрократии.
— Зачем вы хотите быть профессором, — спрашивал я его, — и ищете кафедру? Вы должны быть министром и искать портфель.
Споря с ним, проводили мы его на железную дорогу и расстались, не согласные ни в чем, кроме взаимного уважения.
Из Франции он написал мне недели через две письмо, с восхищением говорил о работниках, об учреждениях. «Вы нашли то, что искали, — отвечал я ему, — и очень скоро. Вот что значит ехать с готовой доктриной». Потом я предложил ему начать печатную переписку и написал начало длинного письма.
Он не хотел, говорил, что ему некогда, что такая полемика будет вредна…
Замечание, сделанное в «Колоколе» о доктринерах {514} вообще, он принял на свой счет; самолюбие было задето, и он мне прислал свой «обвинительный акт» {515} , наделавший в то время большой шум.
Чичерин кампанию потерял, — в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в «Колоколе», был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано {516} . Мы еще шли тогда в восходящем пути, и катковские бревна трудно было класть под ноги. Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом: он был еще нов тогда. Зато со стороны Чичерина {517} стали: Елена Павловна — Ифигения Зимнего дворца, Тимашев, начальник III Отделения, и H. X. Кетчер.
Кетчер остался верен реакции, он стал тем же громовым голосом, с тем же откровенным негодованием и, вероятно, с тою же искренностью кричать против нас, как кричал против Николая, Дубельта, Булгарина… И это не потому, чтоб «Грандисона Ловласу предпочла {518} », а потому, что, носимый без собственного компаса à la remorque [379] кружка, он остался верен ему, не замечая, что тот плывет в противуположную сторону. Человек котерии [380] , — для него вопросы шли под знаменем лиц, а не наоборот.
Никогда не доработавшись ни до одного ясного понятия, ни до одного твердого убеждения, он шел с благородными стремлениями и завязанными глазами и постоянно бил врагов, не замечая, что позиции менялись, и в этих-то жмурках бил нас, бил других, бьет кого-нибудь и теперь, воображая, что делает дело.
Прилагаю письмо, писанное мною к Чичерину для начала приятельской полемики, которой помешал его прокурорский обвинительный акт.
«Му learned friend [381] .
Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены в том, что знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе, вы знаете, что если прошедшее было так и так, настоящее должно быть так и так и привести к такому-то будущему; вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам досталась завидная доля священников — утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение — открытый вопрос, доктрина — вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение никогда не достигает такой резкой законченности; оно потому и сомнение, что готово согласиться с говорящим или добросовестно искать смысл в его словах, теряя драгоценное время, необходимое на приискивание возражений. Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за едино-спасающий угол, а сомнение ищет отделаться от всех углов, осматривается, возвращается назад и часто парализует всякую деятельность своим смирением перед истиной. Вы, ученый друг, определенно знаете, куда идти, как вести, — я не знаю. И оттого я думаю, что нам надобно наблюдать и учиться, а вам — учить других. Правда, мы можем сказать, как не надобно , можем возбудить деятельность, привести в беспокойство мысль, освободить ее от цепей, улетучить призраки — церкви и съезжей, академии и уголовной палаты — вот и все; но вы можете сказать, как надобно.
Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, то есть отношение с точки зрения вечности {519} ; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в Campo Santo [382] науки или входят уже очищенные от живой жизни, вроде гербария логических теней. Доктрина в своей всеобщности живет действительно во все времена; она и в своем времени живет, как в истории, не портя страстным участием теоретическое отношение. Зная необходимость страдания, доктрина держит себя, как Симеон Столпник — на пьедестале, жертвуя всем временным — вечному, общим идеям — живыми частностями.
Словом, доктринеры — больше всего историки, а мы вместе с толпой — ваш субстрат; вы — история für sich [383] , мы — история an sich [384] . Вы нам объясняете, чем мы больны, но больны мы. Вы нас хороните, после смерти награждаете или наказываете… вы — доктора и попы наши. Но больные и умирающие мы.
Этот антагонизм не новость, и он очень полезен для движения, для развития. Если б род людской мог весь поверить вам, он, может, сделался бы благоразумным, но умер бы от всемирной скуки. Покойный Филимонов поставил эпиграфом к своему «Дурацкому колпаку»: «Si la raison dominait le monde, il ne s’y passerait rien» [385] {520} .
Геометрическая сухость доктрины, алгебраическая безличность ее дают ей обширную возможность обобщений, — она должна бояться впечатлений и, как Август, приказывать, чтоб Клеопатра опустила покрывало {521} . Но для деятельного вмешательства надобно больше страсти, нежели доктрины, а алгебраически страстен человек не бывает. Всеобщее он понимает, а частное любит или ненавидит. Спиноза со всею мощью своего откровенного гения проповедовал необходимость считать существенным одно не точимое молью, вечное, неизменное — субстанцию и не полагать своих надежд на случайное, частное, личное. Кто это не поймет в теории? Но только привязывается человек к одному частному, личному, современному; в уравновешивании этих крайностей, в их согласном сочетании — высшая мудрость жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: