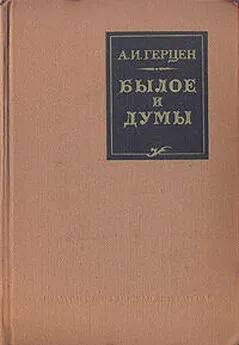Александр Герцен - Былое и думы. Части 1–5
- Название:Былое и думы. Части 1–5
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная Литература
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Герцен - Былое и думы. Части 1–5 краткое содержание
Автобиографическое сочинение "Былое и думы" Александра Герцена, писателя, философа, публициста, отца русского либерализма, основателя Вольной русской типографии в Лондоне, издателя "Колокола" и просто одного из умнейших людей России, — признанный шедевр мемуарной литературы.
Почти шестнадцать лет Герцен работал над своим главным произведением — автобиографическим романом "Былое и думы". Сам автор называл эту книгу исповедью, "по поводу которой собрались… там-сям остановленные мысли из дум". Но в действительности, Герцен, продемонстрировав художественное дарование, глубину мысли, тонкий психологический анализ, создал настоящую энциклопедию, отражающую быт, нравы, общественную, литературную и политическую жизнь России середины XIX века.
В данный том вошли части 1–5.
Вступительная статья Я. Эльсберга
Примечания Н. Ждановского (при участии В. Гурьянова) — к частям 1–3; И. Твердохлебова — к части 4; И. Белявской, Н. Застенкера, Л. Ланского, А. Малаховой, Г. Месяцевой, М. Полякова, И. Птушкиной, З. Цыпкиной — к части 5.
Былое и думы. Части 1–5 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мицкевич свел свою речь на то, что демократия теперь собирается в новый открытый стан, во главе которого Франция, что она снова ринется на освобождение всех притесненных народов под теми же орлами, под темн же знаменами, при виде которых бледнели все цари и власти, и что их снова поведет вперед один из членов той венчанной народами династии, которая как бы самим провидением назначена вести революцию стройным путем авторитета и побед. {568}
Когда он кончил, кроме двух-трех одобрительных восклицаний его приверженных, молчание было общее. Хоецкий заметил очень хорошо ошибку Мицкевича и, желая поскорее загладить действие речи, подошел с бутылкой и, наливая бокал, шепнул мне:
— Что же вы?
— Я не скажу ни слова после этой речи.
— Пожалуйста, что-нибудь.
— Ни под каким видом.
Пауза продолжалась, некоторые опустили глаза в тарелку, другие пристально рассматривали бокал, третьи заводили частный разговор с соседом. Мицкевич переменился в лице, он хотел еще что-то сказать, но громкое «Je demande la parole» [440] положило конец затруднительному положению. Все обернулись к вставшему. Невысокий старик, лет семидесяти, весь седой, с славной, энергической наружностью, стоял с бокалом в дрожащей руке; в его больших черных глазах, в его взволнованном лице были видны гнев и негодование. Это был Рамон де ла Сагра.
— За двадцать четвертое февраля, — сказал он, — таков был тост, предложенный нашим хозяином. Да, за двадцать четвертое февраля и на погибель всякому деспотизму, как бы он ни назывался, королевским или императорским, бурбонским или бонапартовеким. Я не могу делить воззрения нашего друга Мицкевича; он смотреть может на дела как поэт, и по-своему прав, но я не хочу, чтоб его слова в таком собрании прошли без протестации… — И пошел, и пошел, со всею страстью испанца, со всеми правами семидесяти лет.
Когда он кончил, двадцать рук, в том числе и моя, протянулись к нему с бокалами, чтобы чокнуться.
Мицкевич хотел поправиться, сказал несколько слов в объяснение, они не удались. Де ла Сагра не сдавался. Все встали из-за стола, и Мицкевич уехал.
Хуже предзнаменования для нового журнала не могло быть, он просуществовал кое-как до 13 июня и исчез так незаметно, как существовал. Единства в редакции не могло быть; Мицкевич свертывал половину своего императорского знамени, usé par la gloire [441] , другие не смели развертывать своего; стесненные им и советом, многие через месяц оставили редакцию; я не послал ни разу ни одной строчки. Если б наполеоновская полиция была умнее, никогда «Tribune des Peuples» не была бы запрещена за несколько строчек о 13 июне. С именем Мицкевича и с поклонением Наполеону, с мистической революционностью и с мечтой о вооруженной демократии, во главе которой наполеониды, этот журнал мог бы сделаться кладом для президента, чистым органом нечистого дела {569} .
Католицизм, так мало свойственный славянскому гению, действует на него разрушительно: когда у богемцев не стало больше силы обороняться от католицизма, они сломились; у поляков католицизм развил ту мистическую экзальтацию, которая постоянно их поддерживает в мире призрачном. Если они не находятся под прямым влиянием иезуитов, то, вместо освобождения, или выдумывают себе кумир, или попадаются под влияние какого-нибудь визионера [442] . Мессианизм, это помешательство Вронского, эта белая горячка Товянского, вскружил голову сотням поляков и самому Мицкевичу {570} . Поклонение Наполеону принадлежит на первом плане к этому безумию; Наполеон ничего не сделал для них; он не любил Польши, а любил поляков, проливавших за него кровь с тем поэтическим колоссальным мужеством, с которым они сделали свою знаменитую кавалерийскую атаку в Сомо-Сиерра {571} . В 1812 году Наполеон говорил Нарбону: «Я хочу в Польше лагерь, а не форум. Я равно не позволю ни в Варшаве, ни в Москве открыть клуб для демагогов», — и из него-то поляки сделали военное воплощение бога, поставили рядом с Вишну и Христом..
Раз вечером, поздно, зимой 1848 шел я с одним поляком из Мицкевичевых приверженцев по Вандомской площади. Когда мы поравнялись с колонной, поляк снял фуражку. «Неужели?..» — подумал я, не смея верить в такую глупость, и смиренно спросил его: что за причина, что он снял фуражку? Поляк показал мне пальцем на бронзового императора. Как же после этого не теснить и не угнетать людей, когда это приобретает столько любви!
В домашней жизни Мицкевича было темно, что-то несчастное, мрачное, «посещенное богом». Жена его долгое время была поврежденной. Товянский заговаривал ее и будто помог, это особенно поразило Мицкевича, но следы болезни остались… Дела их шли плохо. Печально оканчивалась жизнь великого поэта, пережившего себя. Он угас в Турции {572} , замешавшись в нелепое дело устройства казацкого легиона, которому Турция запретила называться польским. Перед смертью он написал латинскую оду во славу и честь Людовика-Наполеона {573} .
После этой неудачной попытки участвовать в журнале я еще больше удалился в небольшой круг знакомых, увеличивавшийся появлением новых эмигрантов. Прежде я хаживал иногда в клубы, участвовал в трех-четырех банкетах, то есть ел холодную баранину и пил кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабо и подтягивая «Марсельезу». Теперь и это надоело. С глубоко скорбным чувством следил я и помечал успехи разложения, падения республики, Франции, Европы. Из России — ни дальней зарницы, ни вести хорошей, ни дружеского привета; писать ко мне перестали; личные, ближайшие, родные связи приостановились. Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками. Она вступала тогда в то страшное пятилетие, из которого выходит теперь [443] наконец вслед за гробом Николая.
Это пятилетие и для меня было самое худшее время моей жизни; у меня нет ни столько богатств на потерю, ни столько верований на уничтожение…
…Холера свирепствовала в Париже, тяжелый воздух, бессолнечный жар производили тоску; вид испуганного несчастного населения и ряды похоронных дрог, которые, приближаясь к кладбищам, пускались в обгонки, — все это соответствовало событиям.
Жертвы заразы падали возле, рядом. Моя мать поехала с одной знакомой дамой, лет двадцати пяти, в Сен-Клу {574} ; вечером, когда они возвращались, дама чувствовала себя несколько нездоровой, моя мать уговаривала ее остаться ночевать. Утром, часов в семь, пришли мне сказать, что у нее холера; я пошел к ней и обомлел, — ни одной черты не осталось по-прежнему — она была хороша собой, но все мышцы лица опустились, съежились, темные тени легли под глазами. Насилу отыскал я Райе в институте и привез его. Взглянув на больную, Райе шепнул мне:
— Вы сами видите, что тут делать, — прописал что-то и уехал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: