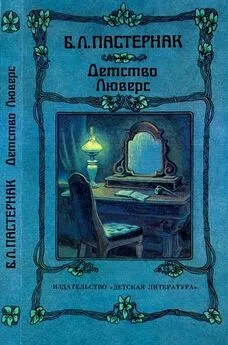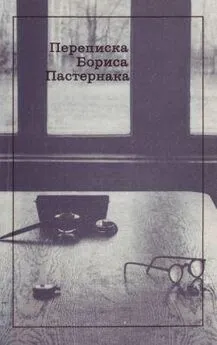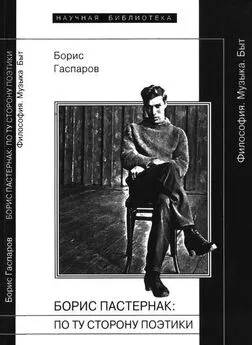Борис Пастернак - Детство Люверс
- Название:Детство Люверс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Детская литература
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-08-001774-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Детство Люверс краткое содержание
В книгу вошли повести «Детство Люверс», «Охранная грамота» и автобиографический очерк «Люди и положения».
Авторы комментариев — Пастернак Елена Владимировна, Пастернак Евгений Борисович; художник — Иващенко Петр Васильевич.
Для старшего возраста.
Детство Люверс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.
Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченое, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.
Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.
Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.
От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в теченье нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.
Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова {84} , красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях.
Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.
Как всегда, оживленное движенье столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.
Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве.
Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».
Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.
Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.
Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.
В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.
Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.
Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».
Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.
Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.
В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом {85} и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте романтическое жизнепониманье покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.
Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья.
Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основаньем. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положенье.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: