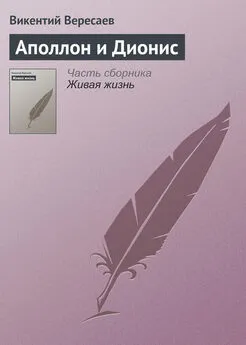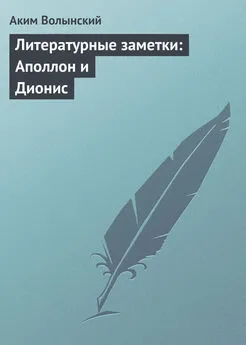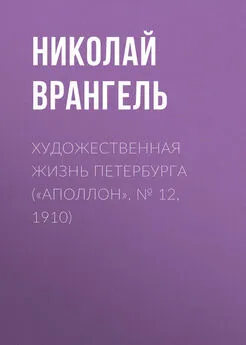В Вересаев - Аполлон и Дионис (О Ницше)
- Название:Аполлон и Дионис (О Ницше)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
В Вересаев - Аполлон и Дионис (О Ницше) краткое содержание
Аполлон и Дионис (О Ницше) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Этот бог - все тот же Дионис. Когда он был еще младенцем, Зевс предназначил ему властвовать над миром. Но злые титаны хитростью овладели ребенком, растерзали его на части и пожрали. Молнией своею Зевс пожег титанов. Из их пепла родились люди. В этом пепле заключались останки и титанов, и пожранного ими бога Диониса; поэтому и сами люди состоят из двух начал: темного, земного, телесного, титанического - и светлого, сверхземного, духовного, божественного. Блажен тот из смертных, кто, презрев земное титаническое, с его тленными радостями и ничтожными желаниями, устремляется душою к светлому очистителю и освободителю душ, великому Дионису-Загрею...
В таких разнообразных, друг другу противоречащих, как будто даже совершенно несогласимых видах является перед нами этот загадочный бог. Недаром называли Диониса "многообразным" и "многоликим"; недаром уже древние писатели высказывали мнение, что под именем Диониса-Вакха существовало несколько совершенно различных богов. Трудно было соединить в одно многообразные свойства этого бога. Он - бог весны, бог радости и избытка сил; вокруг него в ликовании толпятся гении природы - сатиры, кентавры и нимфы; сам великий Пан отказывается от самостоятельной власти над миром и смиренно вступает в свиту могучего бога. Дионис - бог яркого кутежа, самозабвенного упоения мигом, бог наивысшего сладострастия, какое знает человек. И он же - скорбный бог страдания и самоотречения, раскрывающий человеку ничтожность и тленность нашей жизни, властно напоминающий ему об ином, высшем мире. Огромнейший символ, объединивший в себе самые разнообразные переживания человеческого духа.
Но есть одно, что тесно роднит между собою все такие переживания. Это, как уже было указано, "безумствование", "исхождение из себя", экстаз, соединенный с ощущением огромной полноты и силы жизни. А чем вызван этот экстаз - дело второстепенное. В винном ли опьянении, в безумном ли кружении радетельной пляски, в упоении ли черною скорбью трагедии, в молитвенном ли самозабвении отрешившегося от мира аскета - везде равно присутствует Дионис, везде равно несет он человеку таинственное свое вино.
Покажется странным, и иного даже покоробит, как можно подводить под одно столь различные душевные состояния. И, однако, несомненно, все их объединяет нечто очень существенное, объединяет настолько, что можно то и дело наблюдать переход одного из этих душевных состояний в другое. Опьянение вином и любовное сладострастие играют большую роль в мистических экстазах персидских суфиев. Русские мистические сектанты постоянно сравнивают свое экстатическое "упоение святым Духом" с алкогольным опьянением. В одном хлыстовском распевце поется:
На беседушке на апостольской
Я пила пивцо, я пьянехонька,
Я пошла духом веселехонька.
Христианству долго приходилось бороться со стремлением верующих прославлять бога и мучеников пляскою, и ею приводить себя в молитвенный экстаз. Еще блаженный Августин считал нужным разъяснять, что мучеников следует прославлять non saltando, sed orando - не плясками, а молитвами. Абиссинцы до сих пор пляшут в экстазе во время церковных служб.
Как близки друг другу в этой области переживания, казалось бы, не имеющие решительно ничего общего, показывает одно интересное наблюдение, сделанное исследователем русского мистического сектантства, профессором Д. Г. Коноваловым: "Экстаз имеет наклонность разряжаться по проторенным, привычным для организма путям. Такими путями у большинства русских сектантов-экстатиков, бывших алкоголиков или страдающих алкоголическою наследственностью, являются те, которые проложены и закреплены в своего рода сложные механизмы многократными разряжениями алкогольного опьянения. Экстаз для них - замена возбуждения, которое раньше давало им или их предкам вино".
Другая черта, характерная для Диониса, - что, в отличие от блаженных олимпийских богов, он - бог страдающий. Многочисленные мифы говорят о мучениях, о "страстях" этого бога, об его растерзании. Человек должен перечувствовать и перестрадать великие муки бога, чтобы приобщиться к его правде. Как буйно-самозабвенный весенний восторг доступен только тому, кто прострадал долгую зиму в стуже и мраке, кто пережил душою гибель бога-жизнедавца,- так и вообще дионисова радость осеняет людей, лишь познавших страдальческое существо жизни. Из безмерных мук, из отчаяния и слез, из ощущения растерзанной и разъединенной жизни рождается радостное познание бога и его откровений, познание высшего единства мира, просветленное примирение с жизнью. И в этой дионисовской радости - спасение для человека, источник сил для дальнейшего несения бремени жизни.
Вещий Тиресий в еврипидовых "Вакханках" так разъясняет заслугу перед людьми новоявленного бога Диониса:
Принес он смертным влажный сок лозы.
Когда бессчастный человек той влаги,
Рожденной виноградом, изопьет,
То улетает скорбь, и сон приходит,
Приходит повседневных зол забвенье,
Иного средства от страданий нет.
Дионисово вино мы можем здесь понимать в более широком смысле: грозный вихревой экстаз вакханок вызван в трагедии не "влагою, рожденной виноградом". Тиресий определенно указывает на ту огромную роль, какую играло это дионисово "вино" в душевной жизни нового эллинства: оно было не просто лишнею радостью в жизни человека, - это необходимо иметь в виду, - оно было основою и предусловием жизни, единственным, что давало силу бессчастному человеку нести жизнь.
Иного средства от страданий нет.
Эллин аполлоновский - мы это уже видели - знал другое средство от страданий: могучую стойкость собственного духа.
Каким же образом дионисические переживания одолевают в человеке ощущение темноты и растерзанности мира, каким образом спасают человека для жизни?
Прежде всего, самими этими мигами дионисического подъема над жизнью. Вот как рисует их Ницше: "Тут сама отчужденная от человека природа снова празднует примирение со своим блудным сыном, человеком. Тут раб становится свободным, тут, при благовествовании мировой гармонии, каждый чувствует себя слитым воедино со своим ближним, как будто разорвалось покрывало Маии, и только одни обрывки его еще носятся перед очами таинственного Первоединого. В пении и пляске являет тут себя человек сочленом общины высшего рода: он забыл размеренный шаг и плавную речь и готов, танцуя, взлететь над землей... Перед ним открывается край, где в радостных аккордах дивно замирает диссонанс, и тонет страшная картина мира". О подобных же состояниях говорит Кириллов у Достоевского: "Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда!"
И пускай это только миги, пускай они даже грозят человеку разрушением или гибелью: они так прекрасны, дают человеку такие огромные, озаряющие дух переживания, что способны перевесить темную летаргию жизни вне этих мгновений. "В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит", - говорит Кириллов. И князь Мышкин рассуждает: "Что же в том, что это болезнь? Если в самый последний сознательный момент перед припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: "да, за этот момент можно отдать всю жизнь!" - то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: