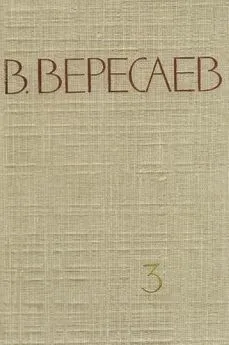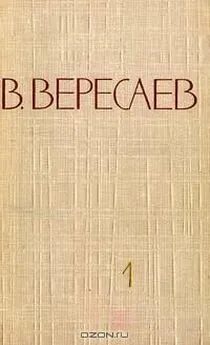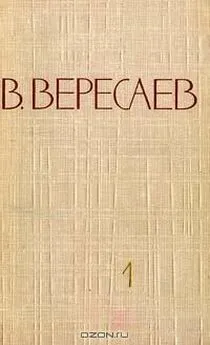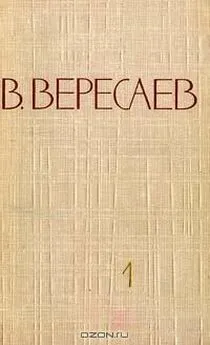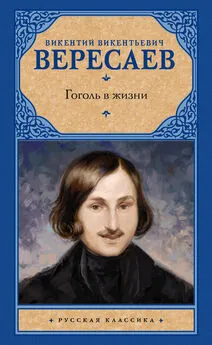Викентий Вересаев - Том 3. На японской войне. Живая жизнь
- Название:Том 3. На японской войне. Живая жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1961
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Викентий Вересаев - Том 3. На японской войне. Живая жизнь краткое содержание
Редкое творческое долголетие выпало на долю В. Вересаева. Его талант был на редкость многогранен, он твердо шел по выбранному литературному пути, не страшась ломать традиции и каноны.
Третий том содержит произведения «На японской войне» и «Живая жизнь» (Часть первая. О Достоевском и Льве Толстом).
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 3. На японской войне. Живая жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Что же это вы делаете? – таким голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное, вскрикнула она и побежала от него».
В последнее время, как вообще сила жизни отождествляется у нас с силою жизни «прекрасного хищного зверя», так и в области любви возносится на высоту тот же «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». У Толстого только очень редко чувствуется несомненная подчас красота этого зверя, – например, в молниеносном романе гусара Турбина-старшего со вдовушкою Анной Федоровной. Ярко чувствуется эта красота у подлинных зверей.
«Бурая кобылка остановилась гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней.
Вон дергач, в густом тростнике перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг к другу.
И я молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сих пор испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видел меня.
И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Она была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Пахавший мужик рассердился, дернул ее вожжами и так ударил лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.
Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла так ошалеть, что было бы с ней, если бы она видела всю красавицу-шалунью, как она, навострив уши, растопырив ноздри и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее».
Так именно, «куда-то порываясь и дрожа молодыми, красивыми телами», зовут к себе друг друга люди-жеребцы и люди-кобылы в зверином воображении нынешних жизнеописателей. Но для Толстого любовь человека – нечто неизмеримо высшее, чем такая кобылиная любовь. И при напоминающем свете этой высшей любви «прекрасный и свободный зверь» в человеке, как мы это видели на Нехлюдове, принимает у Толстого формы грязного, поганого гада.
Отлетает от любви очарование, исчезает живая глубина; радостная, таинственная жизнь оголяется, становится мелкой, поверхностной и странно-упрощенной.
«Бюст Элен, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и скрип ее корсета при движении. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И раз увидев это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману.
„Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? – как будто сказала Элен. – Вы не замечали, что я женщина? Да, я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже“, – сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не только могла, но должна была быть его женою, что это не может быть иначе. И он опять видел ее не какою-то дочерью князя Василия, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем».
Пьер начинает видеть под платьем голую Элен. Глаза ее, подобно ржанию бурой кобылки, говорят: «Да, я могу принадлежать каждому и вам тоже». Чудовищно даже подумать, чтоб князь Андрей или тот же Пьер начали видеть под платьем голую Наташу, или чтоб глаза полюбившей Кити говорили Левину: «Я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже». Глаза ее только одно могут говорить: «Случилось что-то неведомое и таинственное, – и вот я могу принадлежать только вам, и нельзя себе даже представить, чтоб я могла принадлежать другому».
Еще голее, проще и ужаснее в своей простоте отношения Анатолия Курагина к Наташе.
«Он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташе было приятно, что он восхищается ею, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между ним и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею».
Оголение и уплощение таинственной, глубокой «живой жизни» потрясает здесь душу почти мистическим ужасом. Подошел к жизни поганый «древний зверь», – и вот жизнь стала так проста, так анатомически-осязаема. С девушки воздушно-светлой, как утренняя греза, на наших глазах как будто спадают одежды, она – уж просто тело, просто женское мясо. Взгляд зверя говорит ей: «Да, ты женщина, которая может принадлежать каждому и мне тоже», – и тянет ее к себе, и радостную утреннюю грезу превращает – в бурую кобылку.
Темен и низмен в любви становится для Толстого человек, когда в нем пробуждается «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». Но, с другой стороны, для Толстого совершенно чужда и непостижима серафическая «сухая любовь» Достоевского. Прежде и после всего любовь для Толстого есть таинство жизни, служащее «обновлению и созиданию лица земли». Как живая жизнь вообще, так и любовь скрыто несет в себе у Толстого бессознательно направляющую ее цель. И величайшим поруганием жизни является любовь самодовлеющая, любовь, вырывающая из недр своих животворящую ее цель.
Понятно поэтому, что поэзия любви не кончается у Толстого на том, на чем обычно кончают ее певцы любви. Где для большинства умирает красота и начинается скука, проза, суровый и темный труд жизни, – как раз там у Толстого растет и усиливается светлый трепет жизни и счастья, сияние своеобразной, мало кому доступной красоты.
Что, например, может быть безобразнее и достойнее сожаления, чем беременная женщина? Беременность – это уродство, болезнь, – это проклятие, наложенное на женщину богом. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей». Только и остается женщине – покорно и терпеливо нести тяжелую «скорбь» и замирать от ужаса в ожидании грядущих мук и опасностей. Но не так для Толстого.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: