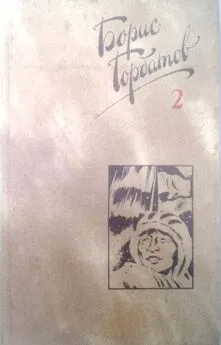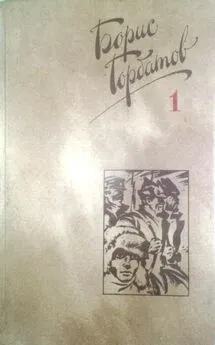Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
- Название:Собрание сочинений в четырех томах. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Правда
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Серафимович - Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 краткое содержание
Собрание сочинений в четырех томах. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Дмитрий Иванович, — сказала матушка, называя при воспоминаниях о тех временах мужа по имени-отчеству, — Дмитрий Иванович спал и во сне видел университет. Первые годы все готовился, собирался снять сан и уехать. Да и я все думала... не могла видеть рясы. За него-то выскочила гимназисткой. Ну, приехали сюда и все жили, как на станции — вот-вот куда-то уедем, как-то устроимся, поступит он в университет, какая-то новая жизнь начнется, а вот уж восьмой ребенок, видно, тут и вырастим... Гашка, сюда ставь... Ну, корова, опять зацепила скатерть.
Гашка здоровая, с отдувшимися красными щеками — не ущипнешь, — с подымающими уродливую городскую кофту грудями, с выпученными глазами и застывшей улыбкой, окончательно стягивает зацепившейся пуговицей вязаную скатерть и торопливо ставит поднос с посудой на пол, чтобы застелить скатерть.
— Да ты спятила! Возьми поднос.
Гашка, с испуганными, рачьими глазами на вспотевшем лице и с разъехавшейся до ушей улыбкой, подымает поднос, а матушка сердито надвигает на стол скатерку.
— Тебе, Галечка, со сливками? Беда тут с прислугами, — видала уродину? Да бьют, да колотят, да все пережаривают, да переваривают... А безнравственные какие!
— Гиппопотам, — вставил батюшка.
— ...Вчера вздумала воздушный пирог. Намяла яблоков, детишки оторвали меня, прихожу, а Гашка половину уже успела слопать, — можешь себе представить, выгребает руками и ест...
— Ды няправда!.. — раздастся из-за притолоки здоровенный во весь рот деревенский голос, от которого словно тесно стало в комнате, — я этта поставила на лавку, — на минутку выглядывает толстое вспотевшее лицо с испуганными, рачьими глазами, — а кобель пришел...
— Да ты с ума сошла!.. Ступай на кухню.
— ...ды стрескал.
Стали пить чай. На тарелке возвышались горы подрумяненных, таявших во рту ватрушек — дело рук матушки.
Вошли дети, по росту лесенкой, друг за дружкой, конфузливо стали около отца и матери, не отрывая скромно-завистливых глаз от городских печений, разложенных отдельно на тарелочке.
Батюшка и матушка расспрашивали Галину, как и что в городе, но не дослушивали, постоянно сбивались на свое, рассказывали о приходе, который бы ничего, с доходом, да старообрядцы; а то есть и православные отбившиеся, его и канатом не затянешь в церковь, разумеется, и доходу с такого, как с козла молока, кроме насмехательства, ничего. Вообще трудно и неприятно ходить с поборами, самое лучшее бы священнику жалованье.
И с народом... Народ бы ничего, но в сад непременно заберутся, оборвут яблоки; скосить десятину возьмут столько же, сколько и со всякого другого. Тяжело.
Матушка дала детям по печенью каждому, и они, радостно засветившись, торопливо пошли гуськом из комнаты, и у самого маленького белела сзади хвостом выбившаяся из штанишек рубашонка.
А Галина, провожая глазами детей, вдруг почувствовала запах пеленок и подумала:
«Вот и все, — больше никуда и не поедут...»
Детей матушка уложила, за столом только сидела Лидочка и следила за всем большими задумчивыми глазами.
Не хотелось зажигать лампы, сумерничали. В открытые окна сквозь герань смутно виднеется улица, избы, и черные крыши неровно вычерчиваются по слабой заре; сквозь покой и тишину слышно — одиноко лает собака, да девки поют где-то далеко, смягченно расстоянием и от этого задушевно.
— Ну, что все-таки новенького в литературе, — говорит о. Дмитрий, прихлебывая крепкий, красно-черный чай. — Помню, бывало, в семинарии своекоштные притащат «Русское богатство» — я-то в интернате жил — уляжемся спать; надзиратель пройдет, все успокоится, тогда осторожно подымаемся, составляем в круг стулья, покрываем сверху одеялами, забираемся туда, — вроде сени Моисеевой, — зажжем свечку и читаем. Дебаты, споры, забудемся, такой крик подымем, святых вон неси. «А-а, голубчики!..» — и накроют, ну и расправа. Жестокие были времена!
— Галечка, ты совсем ничего не кушаешь. Положи-ка, положи себе каймачку, Лидочка, ты устала, прилегла бы, может.
— Нет, мамочка, я посижу с вами, — сказала девочка, и в сумерках глаза ее казались еще больше, будто всматривались широко открытыми в неведомое ей прошлое отца и матери.
Полупотухший самовар внезапно запел тоненько и унывно, а матушка заволновалась:
— Где крышка? Где крышка?
И, когда прикрыла и самовар смолк, сказала:
— Не к добру.
— Покойника боишься, что ль? — сказал отец Дмитрий.
— Покойника не покойника, а нечего об этом талдычиться, талды — талды... из пустого в порожнее, не люблю.
Да вдруг вспылила:
— Вечно ты, отец, с глупостями!.. Лампу надо зажечь, совсем темно.
— Не надо, — сказал о. Дмитрий, поднялся, взял гитару со стены и присел на диван, настраивая.
— Хоть бы лоб перекрестил, — сказала матушка, принимаясь убирать посуду.
Батюшка откашлялся, взял аккорд и запел:
Сре-е-ди-и до-о-ли-и-ны-ы ро-ов-ны-я
На гла-ад-кой вы-ы-ы-со-о-те-э-а...
Невысокая комнатка вся заполнилась бархатным голосом, мощным и ласковым и, может быть, печальным.
Эта старая, забытая, трогательная в наивности песня отозвалась сладкой болью не то воспоминания, не то сожаления, может быть, оттого, что батюшка, чуя огромную силу своего голоса, сдерживал и вмещал его осторожно и даже нежно в этой маленькой, пахнущей смолой и слегка ладаном уютной комнатке, где прошла молодость, где захирели надежды.
Ка-ак ре-э-э-кру-у-т на ча-а-а-са-а-а-ах...
Не видно выражения лица матушки, неподвижно сидящей в сумраке у холодеющего самовара с прижавшейся к ней Лидочкой; только в полном, слегка расплывшемся и от этого несколько неуклюжем силуэте ее — не то усталость, не то неподвижность раздумья.
«Нет, со мной этого никогда не будет...» — подумала девушка, сама не представляя, чего « этого ».
Батюшка перестроил гитару и, помогая себе редкими аккордами, запел песню варяжского гостя из «Садко».
И это уже не батюшка, а в сумраке смутно виднелся высокий красивый семинарист, готовившийся поступить в университет. И не семинарист, а артист. И почудился партер, молчаливо залитый желтеющими лицами, скованный напряжением внимания, подчиненного бархатному мощному голосу певца.
— Ну, будет тебе, — недовольно послышался такой обыденный, простой и такой крепкий в своей будничности голос матушки, что он покрыл певца, — лампу надо зажечь. Ишь, темно. Никогда не пел, а то распелся, а завтра в Пузовку с побором чем свет ехать.
Звякнуло стекло, загорелась спичка, и окна угрюмо почернели.
Девочка смотрит на отца большими удивленными глазами, и они блестят. О. Дмитрий в черной люстриновой рясе, странно и неуместно сидящей на его большом могучем теле, вешает гитару на стену и гладит головку девочке.
— Иди, Лидуша, спать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: