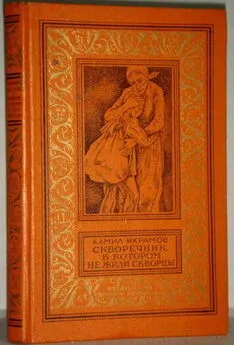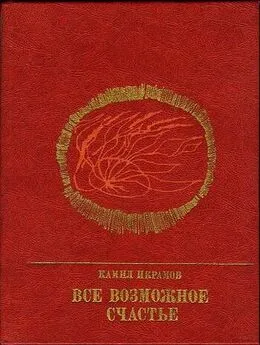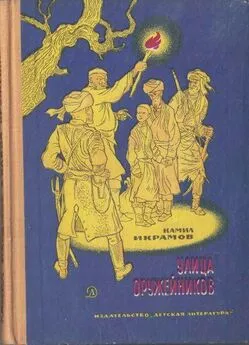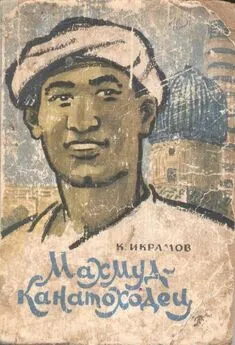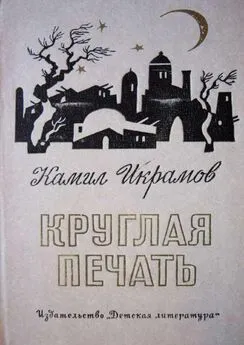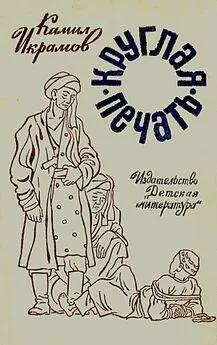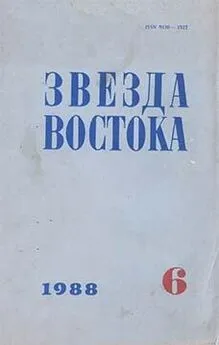Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника]
- Название:Дело моего отца [Роман-хроника]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-265-01112-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника] краткое содержание
Дело моего отца [Роман-хроника] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не только по незнанию я уклонялся от ответа. Понимал, что большинство задает этот вопрос искренне, но если нас было больше, чем двое, то следовало предполагать, что кто-то обязательно донесет. Я не отвечал на этот вопрос и только сейчас понял, что и про это можно было донести. И наверняка — доносили.
Конечно, я не представлял себе масштабов преступлений в республике, о которых нынче говорят все, но атмосфера была насквозь пропитана ложью, ложью, ложью, ложью. Самое удивительное, что часто не удавалось понять, зачем тебе лгут.
Но тут надо понять, что какая-то часть лгущих делала это потому, что не доверяла мне, и в той атмосфере было это абсолютно простительно Только два человека говорили со мной откровенно. Первый был моим другом, я знал его еще студентом МГУ, потом он стал известным лингвистом, профессором и член-корром, ученым, известным во многих странах. Однажды, провожая меня в Ташкенте из дома до такси, сказал:
— Ты замечал, каких московских подонков-писателей он любит?
— Замечал.
— Как ты думаешь, берет он взятки?
— Вряд ли. Чего ему не хватает.
— А по-моему, берет.
Вторым был директор совхоза. Когда он при первых наших встречах намекал, что Рашидов не тот, за кого себя выдает, я возражал. Вдруг провоцирует? На XXVI съезд партии его выбрали делегатом. Он позвонил мне, сказал, что из гостиницы их не выпускают, поэтому просил приехать.
За окнами «России» светились звезды на башнях Кремля. Он угощал меня делегатской снедью, каленными в золе урючными косточками, зеленым чаем, сначала говорил о незначащем и вдруг сказал:
— Дальше так продолжаться не может. Они уже слитками берут.
Я не понял.
— Золотыми слитками, Камильджан. Все берут, но не у всех.
— До самого верха?
— До самого, Камильджан. А лестницу надо мыть сверху. Так?
Впрочем, оба разговора состоялись, когда Рашидову оставалось жить недолго, хотя этого никто и предположить не мог, когда власть его была безраздельной и Брежнев звал его любовно Шарафчиком…
Если бы и в самом деле отец увидел Ташкент, не мог бы даже с птичьего полета не заметить чудовищного социального расслоения. Может быть, понял бы отец, что на смену сталинской опричнине пришел по прихоти истории в обратном движении вотчинный строй со всей системой феодальных отношений в азиатском их варианте. У нас ведь эмиры, ханы, хакимы, баи и аксакалы — совсем недавнее прошлое. К началу сороковых годов еще одно поколение не сменилось. Грибница феодально-байских связей и психологии была жива, и на ней в соответствии с социальным заказом «гения всех времен и народов» стали буйно расти поганки и мухоморы.
Не знаю пока, сумею ли я в этой книге рассказать о том, до каких чудовищных размеров все это выросло. Я писал об этом в периодике, знакомился с уголовными делами, разговаривал со следователями, которые пока что одни пишут новейшую историю республики, но сейчас не время и не место. Сейчас я должен вернуться к себе и к тому времени, когда приехал в Москву и даже о самой кратковременной поездке на родину не помышлял.
Из Москвы меня забрали, в Москву я вернулся, ибо по постановлению Совета Министров СССР № 1655, касающемуся реабилитированных, мы обеспечивались жилплощадью по месту ареста. А в Ташкенте мой отец все еще продолжал быть врагом народа, и в его имени для краткости и по невежеству совмещали и Троцкого, и Бухарина, и Рыкова, и Зиновьева.
Еще при жизни Сталина, когда я был в ссылке, мой сводный брат Ургут написал из Ленинабада письмо бывшей домработнице деда, тете Даше Хохловой. Та переслала письмо мне, я написал в Ленинабад, но ответа не получил.
Я не знал, что после освобождения из лагеря по болезни Ургут годами нигде не прописывался, стал бродячим строителем и мог не получить моего письма. Я не знал почтового адреса дома моих родственников в Старом городе Ташкента да и не ведал, живет ли там кто-нибудь из наших.
Я упивался Москвой, был счастлив своей зарплатой в 690 рублей, девяти метровой комнатой в коммунальной квартире, которую обставил мебелью, выброшенной на помойку каким-то учреждением.
Один за другим возвращались из лагерей и ссылок мои друзья, стали находиться друзья и знакомые моих родителей. Они возвращались к прежней жизни, к семьям. У одних жены с детьми, у других только дети, у третьих — иногда и родители. Они возвращались к прежним своим занятиям, попадали в колею, по которой до ареста прошли большой путь. Инженеры становились инженерами, бухгалтеры — бухгалтерами, химики — химиками. Мой лагерный друг Евгений Александрович Гнедин был до ареста дипломатом и журналистом-международником. Журналистикой он и стал заниматься, когда тогдашний МИД не захотел иметь с ним дела.
Как ни велик был перерыв, но инерция прежней жизни таилась в этих людях до самой свободы и помогла теперь все поставить на свои места. Кроме того, эти люди знали, кто они на самом-то деле, чего стоят, что могут. Автор «Одного дня Ивана Денисовича» никогда не написал бы этой и других своих «лагерных» книг, если б до ареста не был уже абсолютно состоявшимся человеком, подлинным героем войны, победителем, бравым капитаном Советской Армии А. И. Солженицыным.
Мы постоянно упоминаем поколение молодых людей, прошедших войну и ставших писателями, — гордостью послевоенной литературы, но и те фронтовики, которые попадали в лагерь после Победы, если они не были предателями или уголовниками, а победителями, отличались особой верой в себя, более категоричным отрицанием существовавшего порядка вещей, чем большинство старых лагерников.
А я? До ареста — ученик ремесленного училища, в лагере просто заключенный, в ссылке мне удалось закончить фельдшерскую школу и быть не хуже других. Но в Москве-то среди старых и новых знакомых?
Вообще мое возвращение в Москву больше казалось счастливым финалом, этакой музыкальной кодой, нежели началом новой жизни.
Я обозначил жанр этой книги как роман-хроника. И то, и другое, конечно же, весьма условно. Хронологическую дисциплину мне соблюдать невозможно, оправдываю себя тем, что это не просто хроника, а хроника постижения. Постижение прошлого через настоящее, сквозь несколько его слоев.
В первые годы на свободе я сравнивал себя с глубоководной рыбой, вытащенной на поверхность. Не до обозрения горизонта мне было. Ощущение очень своеобразное — страх, заглушаемый эйфорией. Главная инерция выражалась в том, что я всюду писал заявления с требованием реабилитировать отца. На улице Кирова, в главной военной прокуратуре, куда я пришел в очередной раз, полковник стал объяснять мне, что мое ранее поданное заявление потому не может иметь хода, что я забыл упомянуть место и год рождения отца. Как же, мол, найти его дело?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Камил Икрамов - Дело моего отца [Роман-хроника]](/books/1080195/kamil-ikramov-delo-moego-otca-roman-hronika.webp)