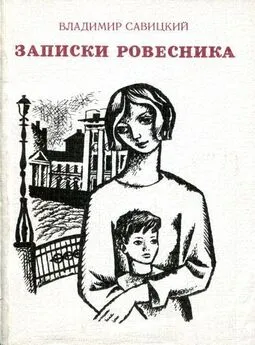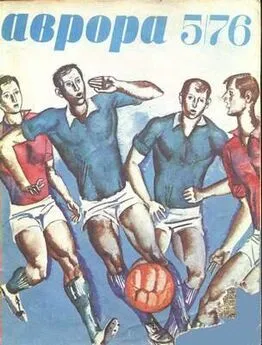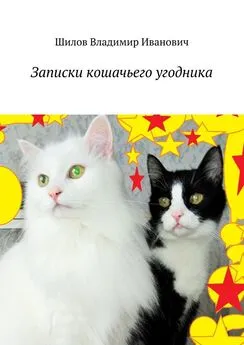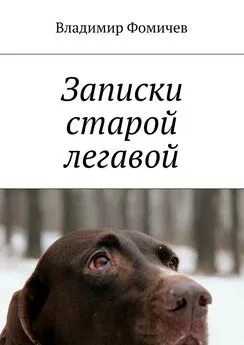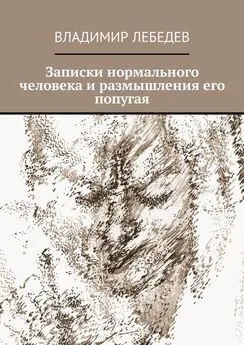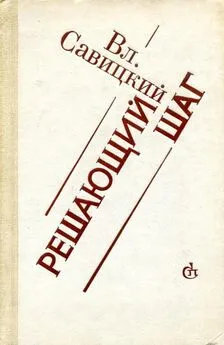Владимир Савицкий - Записки ровесника
- Название:Записки ровесника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лениздат
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Савицкий - Записки ровесника краткое содержание
Записки ровесника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Долго колебались чаши весов. Няня давно спала и, как обычно, тихонечко похрапывала во сне, когда я окончательно решил, что обвинять в предательстве некого, что так оно и быть должно. Не могла же няня давать сдачи всем, кому охота задеть меня… Я вылез из кровати, подошел к ней, поправил одеяло — так же как она это делала каждый вечер, — поцеловал няню в висок, под самые волосы, куда всегда любил целовать, лег и тоже спокойно заснул.
Желающих задеть меня было — хоть отбавляй. Заманчиво же: самый маленький, щуплый, тихоня, среди шпаны дружков — никого, с виду на «гогочку» смахивает: в школу я ходил в бумазейных или суконных блузах на резинке, мама считала их самым подходящим для мальчика моего возраста видом одежды и шила мне блузы собственноручно, одну за другой.
Словом, первое время я все уступал и уступал. Не знал, как иначе. Терпел всякие гадости. Сносил превосходство разных подручных, подхалимов и подпевал, которыми, в свою очередь, помыкали асы — тем-то меня и видно не было.
Потом сразу произошли два события. Я заручился покровительством, хоть и не искал его, и, перестав приглядываться и прилаживаться, дал наконец первый раз сдачи.
Как ни странно, покровитель у меня появился в результате того, что я на редкость хорошо знал весьма распространенный в те годы немецкий язык.
Моя умница-мама, едва только мы перебрались в Ленинград, отдала меня в немецкую группу. Шестеро-семеро дошкольников проводили целые дни с воспитательницей-немкой — гуляли, играли, занимались и даже обедали все вместе у одного из учеников, на квартире родителей которого шли занятия. Обходилось это не так уж и дорого; мама считала этот расход первоочередным. Забегая вперед, замечу, что занятия наши — не каждый день и не так основательно, конечно, — продолжались до окончания нами школы.
Немку звали Евгения Павловна. Сокращенно — Евгеша. Я многим ей обязан, столь многим, что няня, случалось, втихомолку ревновала меня к моей первой учительнице.
Евгения Павловна помогла нам исподволь, безо всякой зубрежки — зубрили мы только спряжения глаголов, но их, как известно, иначе выучить невозможно, — понять, нет, не понять: осознать, ощутить, как безбрежна человеческая культура, как широко можно, и следует, смотреть на вещи, как гуманны основы нашей цивилизации. Мало кому подобное ощущение доступно в семь лет, а жаль, ибо чем раньше оно возникнет, чем раньше «войдет в кровь», тем надежнее послужит впоследствии противоядием против разного рода разочарований, тем вернее скрасит горький опыт, тем лучшим поводырем окажется при поисках своего пути. И самый первый родничок моего будущего интереса, и пристрастия, и любви к истории был, конечно же, не где-нибудь, а именно здесь.
Мы же читали в подлиннике, никак не адаптированными, Гете, Шиллера, Гейне, Шпильгагена — и нам комментировали их произведения. Пусть эти комментарии были подчас излишне прямолинейны, излишне почтительны по отношению к классике вообще и конкретно к н е м е ц к и м классикам, пусть не отличались они научной проницательностью и глубиной — что за беда: для нашего ничтожного возраста и такое толкование было открытием, и каким! Подумайте, как это великолепно: к а ж д ы й д е н ь уяснять себе частицу нового, и не того обязательного «нового», что растолковывают в детском саду или начальной школе — то шло само собой, но никак не было главным, — а чего-то такого, что лежит далеко за границами привычного детского мира, что является общепризнанным. Не молочные зубы — настоящие! Тут и чистое познание — запаса хватит на годы, — тут и сообщение малышу некоего поступательного стремления: «разгонится», войдет во вкус и, того и гляди, не сможет потом представить своего будущего без такого вот каждодневного открытия…
Совершенно неизгладимое впечатление произвели на меня тогда личность, поступки, речи шиллеровского героя Вильгельма Телля, особенно же достоинство, с которым Телль, отвергнув такую простую, такую «логичную» возможность солгать, отвечает на вопрос тирана Геслера о том, что сделал бы он со второй стрелой, если бы первой поразил не яблоко на голове сына, а самого мальчика. Для чего держал он вторую стрелу наготове?
Т е л л ь
Стрелою этой я пронзил бы… вас,
Когда б случайно я попал в ребенка.
И знайте: тут бы я не промахнулся.
Я и сейчас не могу без волнения читать эти гордые строки.
И я, конечно же, ненавидел Геслера, этого изувера, этого чужака-немца, навязывавшего вольнолюбивому народу поклонение перед пославшими его сюда, перед собой, перед своей шляпой… И конечно же радовался, когда стрела Телля благополучно попала в цель и в первый, и во второй раз — сразив тирана. А когда десять лет спустя после того, как мы прочли «Вильгельма Телля», мир был потрясен звериной жестокостью других, ультрасовременных немцев, подобно Геслеру, сеявших мрак в соседних странах, для меня их действия не были особенным открытием: великий немецкий писатель рассказал о такой возможности мальчугану из далекой России, предупредил меня…
Евгения Павловна на немецком языке — по-русски мы с ней вообще не говорили — готовила нас к поступлению в школу по всем предметам; это благодаря ее урокам я поступил сразу в третий класс: на одном чтении далеко не уедешь.
Я не встречал никого, кто к концу школы, да и к концу института (не специально языкового, разумеется), успел бы выучить иностранный язык так же основательно, как мы знали немецкий, п о с т у п а я в школу — ребенку неизмеримо проще. Своим одноклассникам я должен был казаться существом отчасти сверхъестественным; такая расстановка сил сохранилась до самого выпуска, и на уроках немецкого я имел законное право заниматься чем хочу, только тихо, никому не мешая, лишь в особых случаях меня призывали «в строй». Плохо было только то, что легкость овладения языком в объеме школьной программы я автоматически переносил и на другие предметы, а этого делать никак не следовало.
То есть сперва о моих познаниях ребята не подозревали. Но вот во время контрольной или чего-то в этом роде я так, между делом, помог сидевшему через проход Леше Иванову, медлительному крепышу из рабочей семьи, сильному и справедливому парнишке. Леша был на год старше всех в классе — меня, таким образом, года на три, — учеба давалась ему с трудом, но жил он в так называемом «толстовском» доме, бандитском гнезде, буквально набитом шпаной, и пользовался поэтому широким авторитетом в классе и далеко за его пределами.
Леша меня зауважал — как я потом понял, главным образом за ту легкость, с какой я подсказал ему, — и это сразу укрепило мое положение в школе и мою веру в свои силы.
И тут, откуда ни возьмись, — повод к драке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: