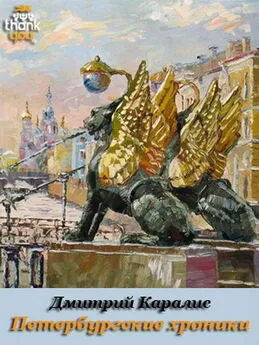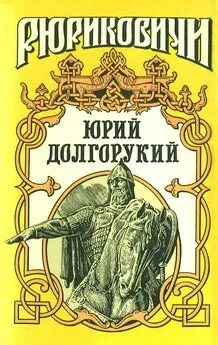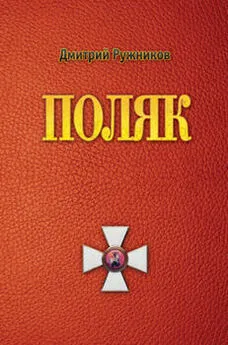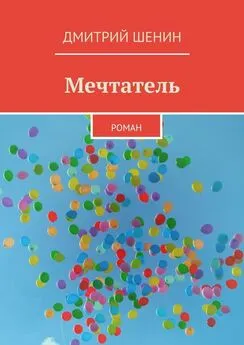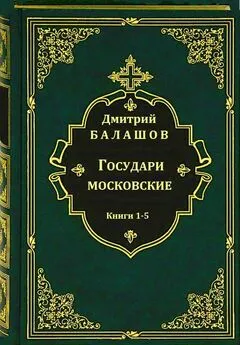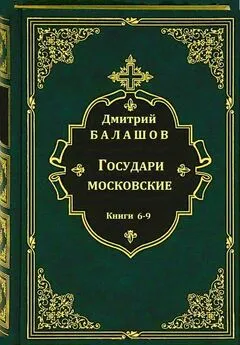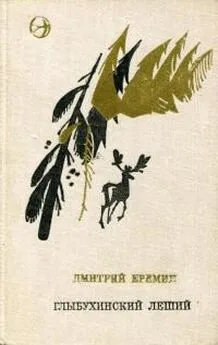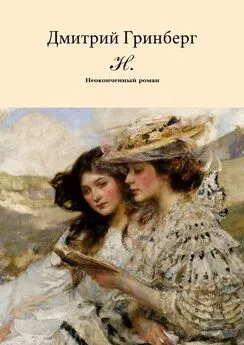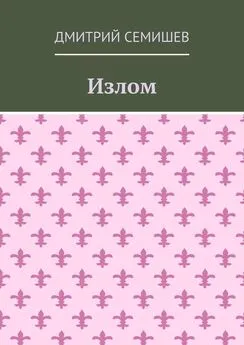Дмитрий Ерёмин - Перед прыжком [Роман]
- Название:Перед прыжком [Роман]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1979
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Ерёмин - Перед прыжком [Роман] краткое содержание
Великая истина о необходимости союза рабочего класса с трудовым крестьянством постигается героями романа в динамике революционных событий. В романе воссоздан образ В. И. Ленина, указавшего единственно верный в тех исторических условиях путь развития страны.
Перед прыжком [Роман] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По благодушным заверениям генерал-губернатора Киргизского края Казнакова, заселение Западной Сибири должно было осуществляться не только «без стеснения кочевого населения», но и с гуманной целью «приобщения кочевников-киргизов к ведению оседлого образа жизни», а следовательно, и для более продуктивного освоения пустующих земель. Это, по доводам генерал- губернатора, «поведет за собою дружеское общение русского населения с киргизами» и даст последним «наглядный пример более удобной жизни».
На деле все получилось иначе. В вербовочных листках говорилось, что переселенцам дается право выбрать землю в Сибири по своему усмотрению, где кто хочет. На обзаведение и покупку скота выдавались деньги. На первые десять лет хозяйствования предоставлялись разные льготы. Но когда эти тысячи семей перевалили через Урал…
Савелий даже и сейчас не мог без боли вспоминать о том, какое «вавилонское столпотворение» началось с первых же дней прибытия людей в «телячьих» вагонах на узловые станции и полустанки достраивавшейся Транссибирской железной дороги. Голодные и бездомные, они неделями спали вповалку на спекшейся словно камень земле возле наспех сколоченных вокзалов. Свои «десятины» каждому пришлось брать у местного населения с бою. Спасаясь от голода и предстоящей зимы, многие хлынули в города. Многие пытались бежать обратно к отцовским местам, в Россию. Но их вылавливали, хлестали нагайками, водворяли на земли «инородцев» силком, понуждая тем самым к насилию и вражде.
Савелию Бесхлебнову, позднее прозванному Бегунком, было уже за двадцать, когда его отец со своей семьей снялся с нищенского надела в Орловщине и вслед за другими двинулся по «чугунке» в неведомую Сибирь. Выданные на обзаведение деньги, из которых власти уже успели вычесть за провоз по три гроша с души за каждую версту (а этих верст от Орла до Омска оказалось немало сотен), были проедены до последней копейки еще в первую зиму. Выделенная Парфентию Бесхлебнову земля (тут ему повезло: другим семьям в тот год не дали совсем ничего, надо было ждать до весны) лежала в плоской степи за разъездом Каракуга среди соленых озер, заросла от края до края колючкой, горькой полынью, караджузаком.
На этой сухосолончаковой земле нечего было и думать о сытой жизни.
— Пропадем мы тут… пропадем! — с тоской повторял отощавший, лохматый, страшный в своем отчаянии отец, оглядывая воспаленными глазами ржавую, закаменевшую степь. — Надо, Савёл, бежать. Спасаться отсель нам надо…
И после слез ребятишек и горестных вздохов матери, после безрадостных прикидок отца: «Куда же теперь? Как же теперь? Живы мы тут не будем!» — семья Бесхлебновых решила «пойти в бега».
Но и в бегах не нашла она счастья. Вначале умерли «от жидкого пуза» две младшие сестры Савелия. Потом слегла мать. Отца засекли в волостном правлении стражники «за непокорство» («Отец был начальству мужик поперечный!» — пояснил Бегунок), и Савелий, оставшись один и тоже «мужик поперечный», снова «пошел в бега».
— Сколь пришлось пережить, — говорил он теперь Антошке, — сколь перемучиться, сколь проклясть, об том и подумать страшно! К счастью, забрили в солдаты и в одном из боев той русской-японской войны сильно ранило. Оказался я в лазарете вместе с нашим орловским, тоже переселенцем, Иваном Братищевым. То да се… уговорил он меня сесть наконец на добрую землю рядом с ним, в селе Мануйлове, на берегу длиннющего озера Коянсу, где раньше еще осела часть тоже орловских. Эти оказались умнее: прежде, чем ехать всем, послали из России в Сибирь разведку. Те походили, поездили, вернулись шкелеты шкелетами, а все же место нашли хорошее… Урожайное место. Так я после войны рядом с Иваном и прилепился в Мануйловке…
Савелий закашлялся, похрипел, тяжело подышал.
— Женился, семья своя получилась. А тут и опять война. И Колчак… ну чего уж?
Он вновь замолчал, на этот раз еще тяжелее, надолго. Потом взглянул на Антошку, тесно прижавшегося к трубе, на его пустой заплечный мешок, на посиневшее от холодного ветра еще безусое лицо, обнадеживающе добавил:
— У нас, в Сибири, слава те, с хлебом пока добро. Вестимо, у тех, кто с хозяйством. Хлеб у этих — не считан. Годами клади в поле необмолоченные стоят. А каждая — с десяток сажен в длину да чуть мене кверху. Вот куда бы тебе в самый раз: без одежки-то там ныне ух как поизносились. За тую твою одежку, — он указал на тощий мешок Антошки, — крепко бы, парень, съестного дали. А если бы тот ремень, с коим вы с Филькой ехали, то и сказать тебе не могу…
— А как туда доберешься? И до Урала вон не доехал..
— Оно, парень, так. Сам третий месяц оттеля еду. С голодухи пупок к хребтине прирос. Двадцать дён в одном лишь Челябинском провалялся: дых заложило. Кашель страшимо бил. И ныне вон, слышь, хрипит? Перекатывается в грудях: хырлы да хырлы. Однако же еду? Вот так бы и ты доехал…
— Сибирь уж, конечно…
Савелий затянулся цигаркой, вдруг резко мотнул головой, судорога прошла по задубевшему на морозе лицу, в горле заклокотало.
— Не отстает хвороба, так ее перетак с маком! — почти с виноватой улыбкой заметил он, отдышавшись. — Да и то: страшимо много было всего при белых. Кого из нас к большому побоищу присуждали, кого прямо так: стрéлят — и в яму. До тех, кто богаче, не достигали, хоть православный, хоть из кыргызов. А нас, что из бедных, куды там! Я как волчище голодный бегал. Кинусь от беляков вот туды — они там, кинусь обратно — опять они.
И при батюшке Николае без роду без племени был, мотался по всей Сибири. Оттого и прозванье мне — Бегунок. А уж при тех беляках, перетак их с маком, сказать тебе не могу!
Савелий вздохнул, помолчал.
— Оттого черно в грудях мужика содеялось в эти лета. Сильно черно! Позри на меня: кулашник был в молодых первейший, хоть без порток. Парень в полном прыску. А что от того осталось? Износ, он всему приходит. Особо таким, как я. Беляк, офицер один, когда бабу мою измяли, а я в защиту полез, драл меня шомполом своеручно. Всю спину, от головы до сиделки, люто искровенил. Хошь покажу? Не хошь? И то: мне одежонку снимать на морозе не к ладу…
Встречный ветер подхватил остаток цигарки, унес за глухо гудящую трубу вагона.
— Когда сильно дерут, — досказал мужик, — во рту тот вкус остается. От шомполу — будто гвоздь сосешь. От розги — березой тянет. Да-а, было у нас беды со слезами. Все извели до края. Евдоху мою до смерти измяли, детишков — в огонь. А меня — шомполами до бесчуствия сил. Болел после этого чуть не год. Вся спина изгнила. Не думал, что жив останусь. Ан выжил…
Савелий помолчал, опять полез за кисетом.
— У нас круг Мануйлова кроме нашего Коянсу — топких озер полно. Кугой с краев заросли. Войдет кто незнамо, заплутается — и конец. Зимой куга, когда высохнет, чистый порох! Не дай бог! Колчаки, бывало, им пользовались, жгли партизан. Раз рядом с Мануйловом такой пожог сотворили, перетак их с маком, что все округ огнем обнялось! Я тогда, как — не помню, один и спасся. Видал?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Ерёмин - Перед прыжком [Роман]](/books/1094107/dmitrij-eremin-pered-pryzhkom-roman.webp)