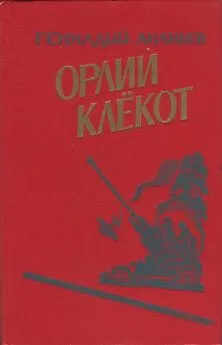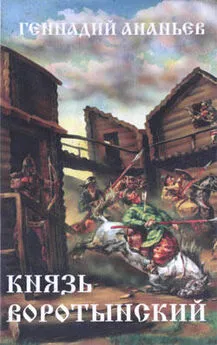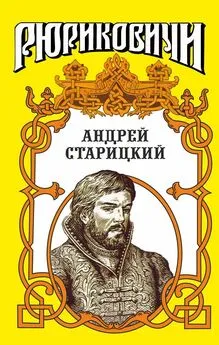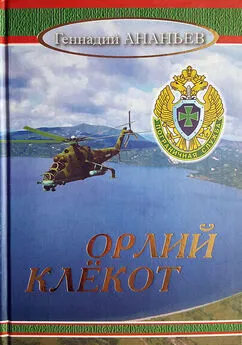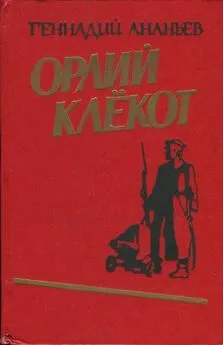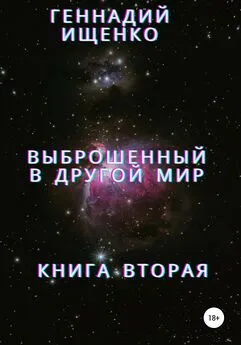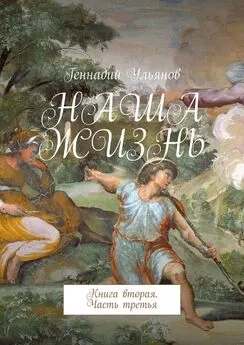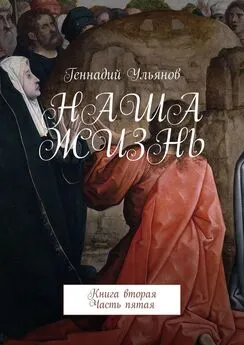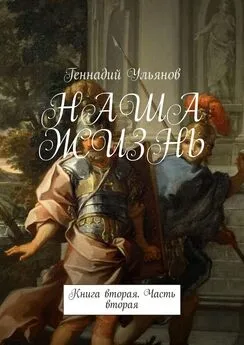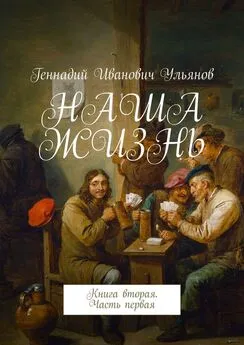Геннадий Ананьев - Орлий клёкот. Книга вторая
- Название:Орлий клёкот. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Военное издательство
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-203-01094-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Ананьев - Орлий клёкот. Книга вторая краткое содержание
Книга рассчитана на массового читателя.
Орлий клёкот. Книга вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пока, однако, они ехали к концлагерю, бродили по нему, с ужасом представляя, каково пришлось военнопленным в этом специально приспособленном для страдания месте, а потом добирались к лесосеке, где военнопленные валили лес, Богусловский, хотя и разговаривал со спутниками, соглашался с тем, что и в самом деле странно близко к лесу расположен концлагерь (когда есть подозрение, все кажется странным), хотя и возмущался вместе со всеми зверством, какое творили люди, считавшие себя высшей расой, сам же все время пытался ответить себе на назойливо вцепившийся в сознание вопрос, случайно или нет, во всероссийском понимании, действие попа.
Он не забыл те сутки, которые провел на колокольне церкви Всех Святых в засаде, помнил и спор с молодым чекистом Петром Самсониным, и тогдашние мысли недоуменные о падении церковных нравов, об измене христианскому принципу «не убий», ибо пухлыми руками самих, видимо, священнослужителей оборудованы были на колокольнях церквей пулеметные гнезда, чтобы стрелять оттуда по трудовой Москве, чтобы утопить ее в крови, как спланировали заговорщики-белогвардейцы, — все это он помнил не только оттого, что в жизни случаются события, о которых человек никогда не забывает, но еще и потому, что и потом, на границе, ему приходилось сталкиваться с противодействием церкви, с ее преступлениями. Скорее, не самой церкви, а контрреволюции, слуги которой, не веря ни в бога, ни в черта, подстригались в монахи, облачались в поповские ризы и принимались верховодить в приходах. Особенно заметным было для Богусловского цепкое влияние белогвардейщины в староверческих общинах. Сами бывшие офицеры-дворяне или высокого ранга сановники жили припеваючи в глухих заимках в окружении целых гаремов черниц, а фанатиков-верующих пугали геенной огненной, которая грядет вместе с близким судом божьим, внушали им, что большевизм — предвестник этого суда, и верующие, как бараны, следовали на заклание за козлами-предателями, сжигали себя вместе с детьми либо уходили целыми семьями в стылую тайгу, чтобы отлетели их замерзшие души в рай. Богусловский внушал тогда своим подчиненным, что нельзя огульно обвинять ни православие, ни раскол во враждебности, что следует искать вдохновителей враждебности и не только судить их за преступления, но и открывать их истинное лицо, их истинные цели верующим. И видел Богусловский плоды своих усилий. Нет, конечно, староверы не сбривали бород, не пили из одной чашки с мирскими — они блюли свои догмы, почитая святость их, но они становились прилежными трудягами, которых, не довлей над атеистами чувство неприязни к верующим, вполне можно было брать в пример.
Это Богусловский видел, но он еще и читал бюллетени, получая в них информацию совершенно иного плана: церковь, особенно официальная, не прекращает тайной борьбы с большевизмом, не признает народной власти. И виделся Богусловскому парадокс: сектантство, всегда отличавшееся воинствующими протестами, сдавало позиции заметней, чем делала это официальная церковь, которая никогда не была бойцом в полном смысле этого слова. Ее генеральная позиция — примиренчество, соглашательство. Михаил Богусловский, как и все люди его круга, воспитывался в духе уважения к вере, он хорошо знал историю христианства и русской церкви, вместе с тем он не воспринимал, как малограмотный обыватель или совсем безграмотный мужик, ни сути религиозных истин, или, как их называют церковники, догм, ни религиозных формул, заповедей, которые диктуют смысл бытия, — он мыслил, сопоставлял, оценивал, особенно когда жизнь столкнула его впрямую с церковниками и сектантами, с их враждебностью.
Еще там, на Кулишках, в засаде, он пытался понять, отчего церковники в большинстве своем поднялись против новой власти. Что? Отделение от государства? Так ее лишь Петр I соединил с государством, создав Синод. И прежде этого церковная иерархия была своя, и сразу же, как возникла малейшая возможность, патриаршество она себе тут же вернула.
Отделена школа от церкви? Верно, неугодно такое святителям. Но из-за этого вряд ли пошли бы они на откровенную вражду.
Теряла церковь свое богатство? Так ей не привыкать к этому. Кто-то из святителей пытался, бывало такое, восстать против алчности князей, а позднее и царя, но дело всегда кончалось плачевно для них же самих. Никона, защищавшего земли, золото церковное и пытавшегося освободиться от опеки царя Алексея Михайловича, осудил церковный собор. Не поддержало духовенство и Арсения Мацеевича, последнего, как его стали называть историки, борца против секуляризации церковных вотчин. Екатерина II расправилась с ним, как расправлялась со всеми своими врагами, вовсе не боясь возмутить церковь.
Нет, никогда церковь не была по-настоящему бойцом, она, как видно из истории, приспособленец. А вот революцию встретила ретиво, не со свойственным ей активным противодействием. Приняла идею коммунизма за новую веру, которая выбьет у христианских пастырей и идейные вожжи? Не единожды Богусловский даже думал, что священники оттого взбунтовались, что принимают революцию не как внутреннее дело народа, а как привнесенное извне. Против, так сказать, интервенции поднялись. Как Сергий Радонежский. Как Гермоген. Но с первых же дней войны он понял, что что-то не понял, что-то недооценил, ибо с первых же дней войны все явно изменилось: с амвонов церквей, с мимбаров мечетей зазвучали проклятия фашистским захватчикам. Отмыкались замки на ларях в ризницах, и немалая толика припрятанных до лучших времен золота и дорогих каменьев добровольно отдавалась в Фонд обороны. А старообрядцы, кто считал величайшим грехом брать в руки оружие, благословляли молодых своих мужчин на ратную службу, на битву с захватчиками. Даже из Тувы, которая не была тогда в составе Союза, но где жило много русских старообрядцев, — даже оттуда они ехали на фронт, ибо считали Россию своей Родиной.
И вот еще поп захолустного районного городишки, где и прихожан-то всего ничего. Не только благословлял он прихожан своих на священную войну, но и сам был воителем. Но знал же, что, как только будет разбит фашизм, вновь все вернется на круги своя, и не принятое, не понятое, атеистическое и, значит, враждебное воцарится и на русской земле, и в его родном районном городишке.
Выходит, приняла церковь идеалы коммунизма? Ну если не вся церковь, не все священники, то хотя бы часть из них? Нет, с таким выводом Богусловский согласиться не мог. Не мог, и все тут.
А может быть, смирилась до поры до времени? Как смирялась в свое время с Синодом, с иными попытками власти подмять ее?
Нет, не мог он найти ту истину, какая показалась бы ему неоспоримой. Мало он еще прожил и повидал, чтобы судить верно о столь важном вопросе. С годами она могла бы и раскрыться, эта истина, но увы, судьба не отвела ему для этого времени…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: