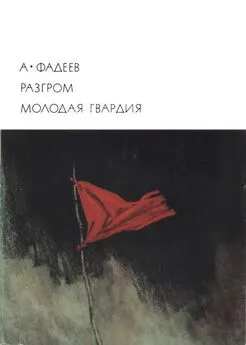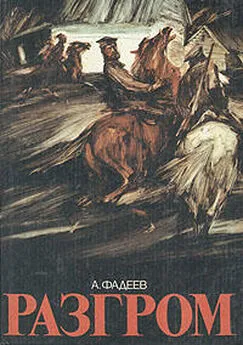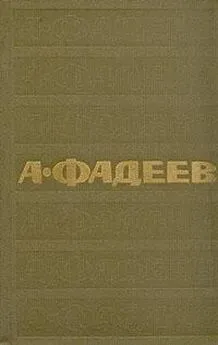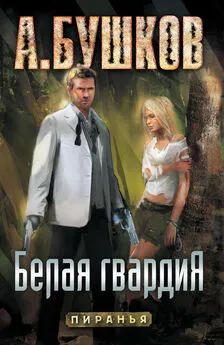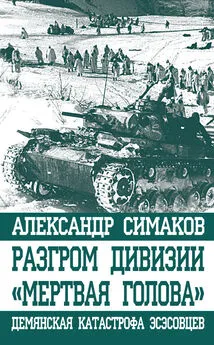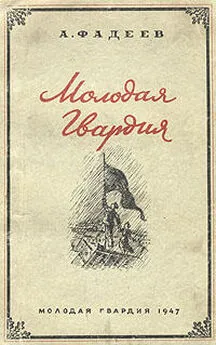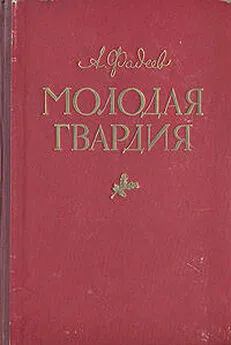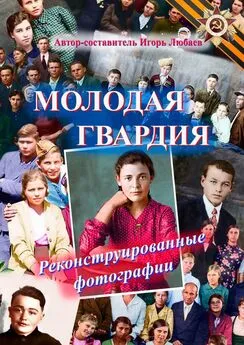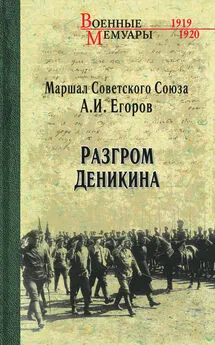Александр Фадеев - Разгром. Молодая гвардия
- Название:Разгром. Молодая гвардия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Фадеев - Разгром. Молодая гвардия краткое содержание
Вступительная статья Л. Якименко.
Примечания В. Апухтиной.
Иллюстрации О. Верейского.
Разгром. Молодая гвардия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Об одном из тех, кого А. Фадеев любил с детства, он скажет: «Я никогда бы не взял его с собой (Фадеев уходил в партизаны. — Л. Я.), потому что это мог быть просто порыв души впечатлительного человека и у меня не было веры, что он не раскается потом» [12] Там же, стр. 306.
.
Не надо искать в «Повести нашей юности» прототипов Мечика. Несомненно, что среда, из которой вышел и могли выходить Мечики, была той средой, которую будущий писатель знал чрезвычайно близко. Она была неоднородной, она была противоречивой.
Мечик приходит в партизанский отряд со смутными, социально неотчетливыми симпатиями к революции. Его приводит в тайгу романтический порыв, естественный для молодости, тяга к неизведанному, овеянному героической дымкой.
А. Фадеев, ставя своего героя в различные положения (столкновение с Морозной, разговоры с Левинсоном, разведка с Баклановым и т. д.), показывает, что драма Мечика не в столкновении романтической мечты с суровой реальностью жизни, как казалось некоторым исследователям «Разгрома».
Мечтательность Мечика выражает отсутствие отчетливых социальных симпатий и антипатий. Она выражает повышенное представление о важности и ценности своей личности, в ней защитная попытка утвердиться в индивидуалистическом самосознании, противопоставить свою «чистоту», свою «возвышенность», свою «порядочность» «общей» безнравственности. Сознание Мечика фиксирует лишь внешнюю, поверхностную сторону явлений и событий.
Кульминационным для понимания Мечика и его судьбы становится ночной разговор с Левинсоном. К этому времени накопилось немало «обид». Мечик оказался мало приспособленным к партизанской жизни, он не умел обращаться с лошадью, к тому же ему достался не «вороной скакун», а смирная, невзрачная кобылка; он не умел ухаживать за оружием, да и не хотел этому учиться, не хотел войти в будничную жизнь с ее прозаическими заботами и потребностями. Он испытывает чувство враждебности и отчуждения от тех людей, с которыми ему приходилось делить все тяготы тяжелого похода.
А. Фадеев показывает, что одна из особенностей индивидуалистического сознания как раз и состоит в противопоставлении своего «я» «грубому», «примитивному» множеству. Мечик, оправдывая себя, оправдывая свою неприспособленность, свое неумение, свое безволие и лень, пытается принизить тех людей, с которыми свела его судьба. Для него они люди грубых, первозданных инстинктов, ограниченных потребностей, люди без цели и смысла.
«Я теперь никому не верю… я знаю, что, если бы я был сильнее, меня бы слушались, меня бы боялись, потому что каждый здесь только с этим и считается, каждый смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо, хотя бы для этого украсть у своего товарища, и никому нет дела до всего остального… Мне даже кажется иногда, что, если бы они завтра попали к Колчаку, они так же служили бы Колчаку и так же жестоко расправлялись бы со всеми, а я не могу, а я не могу этого делать!..» — с предельной, ожесточающей откровенностью говорит Мечик Левинсону.
Здесь важен не только прямой смысл, но и то тайное, что не сказалось, но что просвечивало сквозь все слова в этом дважды повторенном «а я не могу, а я не могу…» с очевидным ударением на выделительном «я». Мечик, противопоставляя себя окружающим партизанам, тем самым оправдывает и возвышает самого себя.
Ситуация, в которую поставлены Мечик и Левинсон — ситуация боя, — такова, что нет условий для того возможного разговора, который бы начинал с основного, изначального.
Левинсон, со своим политическим и жизненным опытом, понимает не только то, что Мечик «непроходимый путаник», но и то, что с ним надобно было говорить о том, «к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия».
Характер Левинсона оттеняет характер Мечика не только прямым противопоставлением воли, осознанного мужества, отчетливости социальной цели и поведения — смутности и зыбкости социального идеала, неприспособленности, лени, безволия. Левинсон одновременно помогает ощутить трудности пути в революцию, важность социального опыта и, одновременно, возможность для таких, как Мечик, при определенных обстоятельствах и необходимых усилиях приобщиться «к осмысленному и решительному действию».
Эта существующая исторически конкретная возможность не меняет всей суровости приговора тому предательству, которое совершает Мечик в конце романа.
«Опровержение» Мечика не в словах, а в судьбах и характерах Бакланова, Морозки, в судьбе партизанского отряда. На первый взгляд Морозка один из тех людей, о которых Мечик говорил Левинсону: если голоден — украдет, при случае напьется, может не исполнить приказ, готов «попугать» мужиков и баб вздорными слухами…
Но за всем этим первозданно-темным А. Фадеев видит то новое, что способствовало движению, очищению, возвышению характера. Морозка попал в партизанский отряд не только потому, что в тайгу уходили его товарищи-шахтеры. Уже на первых страницах книги он говорит Левинсону, пригрозившему выгнать его из отряда: «Уйтить из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать — тем паче… Потому что не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..»
Морозка бессознательно тянется к таким людям, как Дубов, Гончаренко, к людям «правильной породы». Он стремится стать необходимым для дела человеком. У него есть мужество, чувство товарищества, общность целей.
Вражда Морозки к Мечику рождена не глухим чувством ревности, соперничества (жена Морозки Варя тянется к «чистенькому», «красивенькому» Мечику) — в ней противопоставление коллективности, общности борьбы индивидуалистическому сознанию Мечика.
Гибель Морозки, ценой своей жизни предупредившего товарищей о вражеской засаде, — самый сильный и убедительный приговор Мечику, который, спасая себя, предал Морозку, и по его вине погибли многие партизаны.
Драматическая коллизия поднята художником в финале романа до героико-трагического пафоса, который по-новому освещает все события и характеры.
Удачное композиционное решение, умелое использование важнейшего толстовского принципа «оттенения» характеров, глубокий психологизм позволили А. Фадееву создать драматическое, напряженное до трагизма повествование, в котором характеры и судьбы сплетены в едином бурном потоке революционных событий.
Мечта «о добром и прекрасном человеке» присутствует не только в размышлениях Левинсона. А. Фадеев так располагал события, характеры, судьбы, что читателю становилось очевидным: воплощение идеалов добра и справедливости в реальных обстоятельствах революционной борьбы, в трагических свершениях и жертвах, в подвиге Метелицы, в подвиге юного Бакланова, который погиб, прикрывая отход партизанского отряда, в подвиге Морозки…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: