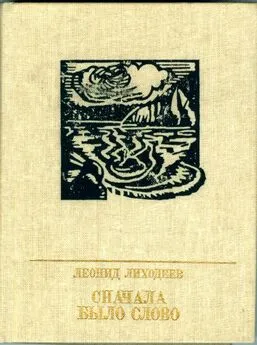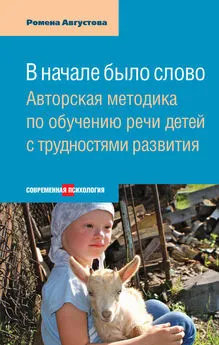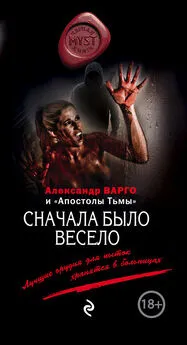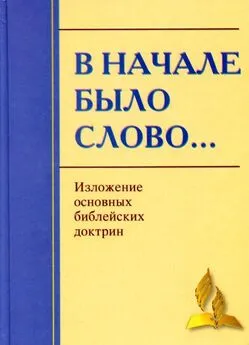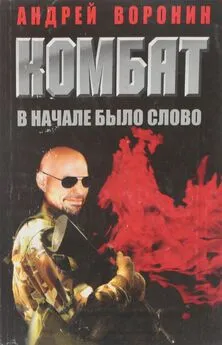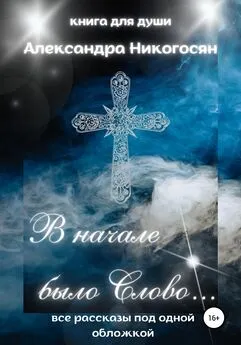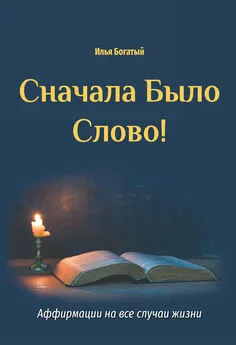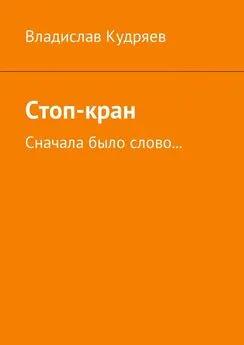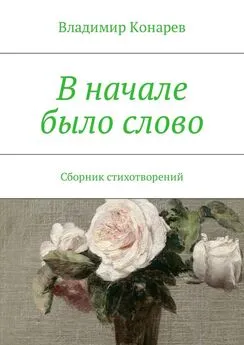Владимир Лиходеев - Сначала было слово
- Название:Сначала было слово
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Лиходеев - Сначала было слово краткое содержание
Его повесть «Сначала было слово» рассказывает о Петре Заичневском, который написал знаменитую прокламацию «Молодая Россия». Заичневскому было тогда неполных двадцать лет. Однако же знакомимся мы в начале книги с пожилым Заичневским. Шаг за шагом возвращаясь к его юности, Л. Лиходеев воссоздает судьбу своего героя, почти неизвестную в литературе, жизнь, отмеченную как бы единственным событием, но являвшую собой образец постоянной, непрерывной работы человеческого духа, ума и сердца.
Сначала было слово - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Сепаратистский, — сострил Петр Григорьевич и ощутил в ответ холодность: сибирские сепаратисты, областники, отделенцы, остерегались его острословия. Митрофан Васильевич Пыхтин, зоолог, знаток фауны и сущей и вымершей, управитель несметного миллионного дела Анны Ивановны Громовой, человек ученый, далекий от образных фантазий, был задет:
— Вы невозможный человек, господин якобинец! Я вам объясняю как зоолог, а вы воспринимаете — как политик… Этак недолго…
— Да ведь дальше Сибири ничего нет! Вы противопоставляете Сибирь России и геологически, и геодезически, и метеорологически и еще бог весть как. Но главным образом — нравственно! Полноте! Природа здесь, возможно, и особенная, а нравственность — пардон! Мы привезли сюда из России все лучшее, что в ней было, и все худшее, что в ней есть! И сатанимся против этого худшего, будто оно, худшее, и есть — Россия, а лучшее — это Сибирь!
Иркутские сепаратисты, областники, таили юношескую мечту свою о Сибирской федерации, поплатились за нее в свое время, но помнили о ней, как помнят всю жизнь безвременно погибшую невесту, так и не ставшую женою. Они постарели, отяжелели домами, делами, чинами, но сердца их колотились прежним и шутить над их страстью было нехорошо. Они делили мир сей на местных и навозных, забывая, что сами, или отцы их, или деды прибыли сюда оттуда же, из России, и больше ниоткуда. Преданность их Сибири была сильна и бесстрашна. Она делала их великими знатоками — зоологами, химиками, землепроходцами, этнографами, экономистами, металлургами, и их имена золотились на корешках драгоценных для российской науки фолиантов.
Петр Григорьевич подтрунивал над их геополитическими настроениями, но уважал и ценил за дело.
Ямщик причмокивал, правил тройкой, поглядывая на несуразно огромную насыпь. И снова обернулся:
— Сказывают, тайгу кругом под топор… Жечь, стало быть… Он же, дьявол, вроде самовара… Я не видел, не знаю, а люди видали: сам черный, труба красная, агромадная и с той трубы постоянно — дым. И все шипит, свистит, как в преисподней, прости господи…
И снова перекрестился черенком кнута.
Петр Григорьевич проезжал по этой дороге четвертый раз. Сюда в шестьдесят третьем году и отсюда в шестьдесят девятом, опять сюда — в девяностом и вот снова отсюда — в девяносто пятом.
Первый раз ехал он сюда, в каторгу, с двумя ленивыми добродушными жандармами, ехал государственным преступником, лишенным всех прав состояния, и считалось, что ехал в кандалах. Кандалы, однако, лежали под сиденкой. Преступник был слаб после болезни, ковать его не было смысла: куда уйдет?
— Братец, — негромко позвал ямщика Петр Григорьевич, — что у тебя под облучком?
Ямщик не понял интереса, помолчал, сказал, причмокнув:
— Разность всякая… Полость, к примеру… Замерз что ли, барин?
— А кандалов не везешь?
Ямщик удивился, обернулся, преодолевая доху:
— Это в Россию-то — кандалы? Из Сибири, чай, едем, какие ж кандалы? Н-н-н-но, распрекрасные!..
II
Старинная изба почтовой станции с затейливыми наличниками, с витыми столбиками крыльца, с прорезными перильцами, с железным петушком на коньке не сразу явилась взору. За эти пять лет вокруг нее выросло целое селение.
Рубленные наспех, поставленные где придется пакгаузы, амбары, навесы громоздились вокруг тесно, смело, беззаботно. Окна новых строений были без наличников, без ставен, двери открывались прямо в белый свет без всяких крылечек и козырьков.
Тайгу отогнали саженей на семьсот, и она чернела дальней оградою, окружая нечаянный посад.
Между построек, перебегая тесные улочки, сталкиваясь, перекликаясь, толпясь, гукая дверями, скрываясь в помещениях, появляясь из срубов, с делом, без дела ошалело суетились люди разного вида и звания. Разгоряченные купцы в поддевках под шубами, одубелые казаки, закутанные башлыками, медлительные инородцы в малицах, суматошные барыни в дорожных меховых салопах, изумленные детишки, обвязанные по шубейкам шерстяными платками крест-накрест.
Широкие, низкорослые вятские лошади с густой заиндевелой шерстью тащили на крестьянских дровнях ящики, бочки, тюки. Возчики шли рядом, покрикивая на народ, чтоб давал дорогу.
А среди всего этого народа, как солидные гуси среди всполошившихся кур, важно, обособленно ходили люди в темно-зеленых шинелях на бобрах и в фуражечках — будто и не мороз — господа инженеры.
Над простым, без затей входом в длинный двухъярусный сруб приколочен был символ строителей железной дороги. Дорога эта находилась неподалеку, в пяти перегонах. Там уже ездили поезда. Но и здесь, еще не готовая, еще не сделанная, она подминала под свою власть все вокруг: ей принадлежали амбары и склады, и обтянутые корабельной парусиной бунты, и пакгаузы, и казармы для рабочих, и трактир с семейными номерами.
Возле небольшого рубленого домика с казенным орлом и вывескою «Телеграфическое отделение» толпа — человек семь — возбужденно горячилась, спорила, ждала чего-то.
Вышел старик смотритель и все нетерпеливо ринулись к нему.
— Господа, — виновато проговорил старик, — из телеграммы приказано задержать четыре упряжки… До распоряжения…
— Кто приказал?
— Не могу знать, господа… Телеграф…
— Понатыкали столбов, бездельники! — с отчаянной смелостью выкрикнул круглый усач в бекешке.
— Новая форма бюрократства, господа! — через ленивую губу произнес высокий человек в тулупе, произнес, осматриваясь, чтобы все слышали. И — действительно — замечание было воспринято с мстительным облегчением.
Вдруг, непочтительно расталкивая всех, на смотрителя двинулся коротконогий, крепкий господин в черной шубе:
— Паз-вольте! Паз-вольте! Я тотчас телеграфирую в Санкт-Петербург Аристарху Владимировичу! В правительствующий Сенат! Уж он-то вам задаст!
Смотритель развел руками в покорном отчаянье:
— Как вам угодно-с… Как вам угодно-с…
Смотритель постарел за эти пять лет неузнаваемо. Петр Григорьевич увидел совсем седые бакенбарды, какие стали носить с воцарением Александра Второго, лет сорок назад. Тогда полагалось подбривать подбородок, чтоб напоминать собою государев лик. Однако время взяло свое, и некогда горделивые бакенбарды, поредев и побелев, торчали теперь по бокам небритой бороды клочковато, по-кошачьи.
Но лисья телогрейка на смотрителе была все та же.
Тогда смотритель жаловался на службу, бормотал вполголоса о невыгодах своего положения.
— Жизнь прошла, а в ушах одно осталось… Из России — лошадей, в Россию — лошадей… Теперь у нас чугунный тракт пойдет… Скорее бы… А мне — на покой…
Петр Григорьевич узнал старика и пожалел его: глаза смотрителя были пусты, бессмысленны. Должно быть, он уже никогда и ничего не боялся, и не потому, что преодолел служивый страх, а потому, что все было ему безразлично, в том числе и его собственная персона, невесть для чего и по какой причине мающаяся на постылом почтовом дворе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: