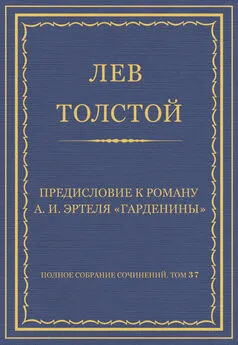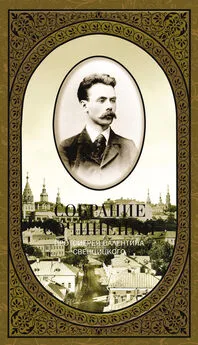Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
- Название:Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы краткое содержание
Содержание:
Свидание с Нефертити. Роман
Очерки
Плоть искусства. Разговор с читателем
Божеское и человеческое Льва Толстого
Проселочные беседы
Военные рассказы
Рассказы радиста
«Я на горку шла…»
Письмо, запоздавшее на двадцать лет
Костры на снегу
День, вытеснивший жизнь
День седьмой
Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Всякое действие мы оцениваем по его результату. Если стихи Пушкина вызывают у нас глубокие отвлеченно-абстрактные чувства, то, наверное, и искусство этого поэта по праву можно считать абстрактным. Картины Кандинского, напротив, вызывают чувства без особых ассоциаций, не отвлеченные, прямые, конкретные, и такого рода искусство вовсе не абстрактно, а сугубо конкретно. Будем судить не по внешнему виду, а по существу. Unicuigue suum! — как говорили древние римляне. Каждому свое!
Получается парадоксальный вывод: конкретное искусство — абстрактно, абстрактное — конкретно. Право, я не стремился к хлесткой парадоксальности, она сама явилась ко мне незваной гостьей.
А музыка?.. — напомнишь Ты с ехидством.
Признаться, ох, как неприятно мне это напоминание, рад бы проскочить мимо — совершенно далек от музыки, не знаком, не восприимчив, не вправе судить. Но — все равно схватят за шиворот, ткнут носом: музыка считается наиболее абстрактным искусством, как ее совместить с конкретностью?
Что ж, попробуем порассуждать и о музыке — по аналогии с другими видами искусства. Уж если какие-то законы действуют в равной степени на искусство слова, изобразительное, актерское, то было бы крайне странно, чтоб музыка оказалась исключением, не подчинялась общим правилам.
Ученые считают, что около 70 процентов всей информации из внешнего мира приходит к нам через зрение. Человек доверяет больше зрению , чем слуху, зрительные образы для него более надежны, а значит, и более конкретны, чем слуховые. Потому искусство, созданное на слуховых образах, должно нам казаться более отвлеченным, менее конкретным, чем искусство, созданное на зрительных образах.
Но означает ли это, что музыка лишена вообще какой бы то ни было конкретности? Самая реалистическая, предметная живопись во многом абстрактна по существу. Пейзаж на холсте уже некая отвлеченность от природной конкретности тем только, что создан на плоскости — условность, с которой волей-неволей мирится зритель. Верно ли, что в музыке меньше конкретного и больше абстрактного по сравнению с живописью? Скорей всего, ее конкретность и абстрактность своеобразны, не схожи с изобразительной.
Даже для меня, отличающегося чисто младенческой восприимчивостью в музыке, плясовой мотив — конкретность, помогающая как-то воспринимать характер того музыкального произведения, куда он входит составной частью. Плясовой мотив как бы выполняет роль того поезда, который помогает мне ощутить досель не ощутимое расстояние до Солнца.
Но и сам-то этот плясовой мотив не сразу для меня стал конкретным, когда-то я его впервые услышал, одновременно с конкретными действиями — вместе со зрительно-ощутимой пляской.
В музыке, мне кажется, как и в любом другом искусстве, абстрактное облекается в конкретную форму, только это музыкально-конкретное более абстрактно по сравнению, скажем, со зрительными пли литературными образами. И не зря же музыка постоянно вступает в симбиоз с другими видами искусства — литературно-поэтическим (песни), танцевальным, театральным (опера). Выходит, что музыка ищет конкретности где только может.
Думается, нет оснований выделять музыку в разряд специфически абстрактного искусства, у нее все как у всех. Впрочем, предоставляю право доказать это или опровергнуть другим — сведущим.
Абстракционисты считаются антиподами натуралистов; казалось бы, между этими крайне противоположными направлениями ничего не может быть общего. Одни не признают никакой конкретности, другие конкретны до рабского подражания природе. И тем не менее, если вдуматься поглубже, как у тех, так и у других есть общее в своей основе.
Натуралисты скрупулезно копируют форму предмета, внешние признаки конкретности. Абстракционисты тоже занимаются слепым копированием внешних признаков, но уже абстрактности. Натуралистам кажется, что, чем точнее, «похожее» передадут они внешний вид, конкретную оболочку вещи, тем сильнее они раскроют ее внутренний характер. Абстракционисты считают, что, чем похожее по внешнему виду они изобразят абстрактное, тем более абстрактный характер станет носить их искусство. По сути дела, как те, так и другие руководствуются одним принципом отображения — копированием внешних признаков. Один подход приводит и к однозначному результату — натуралисты передают мир не так, как он воспринимается человеком, лгут своим зрителям; абстракционисты, вместо абстрактных чувств наделяя зрителей конкретными, тоже не оправдывают своего назначения — лгут.
Между двумя столь непохожими крайностями — натуралистами и абстракционистами — лежит неисчислимое количество различных направлений, ответвлений, обособленных группировок, которые, каждое по-своему, пытались и пытаются обновить искусство, меняя лишь его внешний облик. Их нелегко даже перечислить, а разобрать — совсем непосильная задача. К тому же пришлось бы уйти от общих вопросов, утонуть в частностях.
Мне кажется бесспорным, что эти саранчой расплодившиеся по свету «новаторы», начиная от ветхозаветных декадентов, кончая каким-нибудь (уже устаревающим) поп-арт, — доказательство глубокого кризиса современного искусства.
Я верю — наших детей ждет искусство иное, не схожее с тем, какое мы знаем и любим. Казалось бы, не так уж и далек от нас по времени А. П. Чехов. Еще живы те, кто были его младшими современниками, и книги его для нас еще не утратили актуальной злободневности. Но, однако, как отличается тот мир, в котором творил Чехов, от мира нашего.
Чехову понадобилось почти три месяца «конно-лошадиного странствия», чтобы попасть на Сахалин, а мы теперь можем, утром проснувшись в Москве, вечером лечь спать в какой-нибудь сахалинской гостинице. Чехову бы в голову не пришло бояться тесноты на своей обширной планете, мы же этого ощутительно побаиваемся, не без тревоги говорим о демографическом взрыве.
Чехов и вообразить себе не мог общество, где в меньшинстве были бы крестьяне и рабочие-производители. Но мы сейчас уже знаем страны, где каких-нибудь 12 процентов работают в сельском хозяйстве и успешно кормят все население. А солидные ученые, занимающиеся футурологией, нам сообщают, что «производством в 2000 году будут заняты только около 10 процентов трудоспособных людей. Более 75 процентов желающих работать будут заняты в административной сфере, в области просвещения и обслуживания».
Мы уже можем не выходя из дома наблюдать, как люди работают на поверхности Луны. А «достать Луну с неба» во времена Чехова означало выражение самых бессмысленных претензий.
Думал ли Чехов, что человек когда-либо осмелится помечтать о победе над самой смертью. А мы мечтаем, и не без надежды: «Человек, по мнению многих ученых, сможет наслаждаться бессмертной жизнью…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

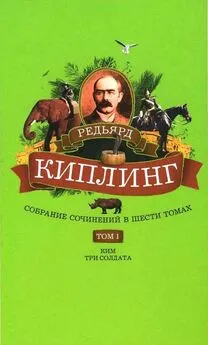

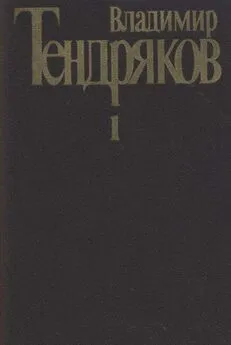
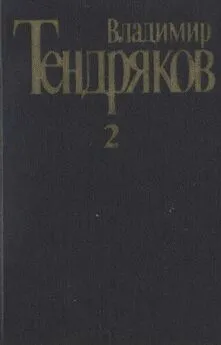
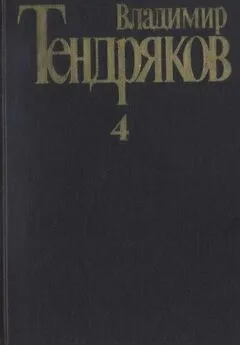
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/books/446604/vladimir-tendryakov-sobranie-sochinenij-tom-5-poku.webp)