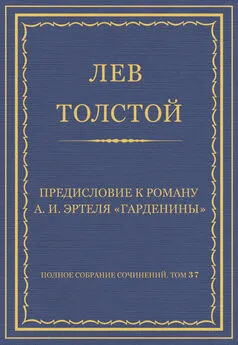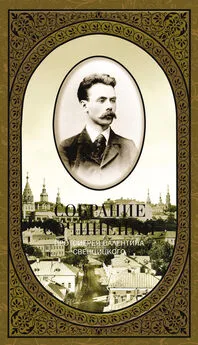Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
- Название:Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы краткое содержание
Содержание:
Свидание с Нефертити. Роман
Очерки
Плоть искусства. Разговор с читателем
Божеское и человеческое Льва Толстого
Проселочные беседы
Военные рассказы
Рассказы радиста
«Я на горку шла…»
Письмо, запоздавшее на двадцать лет
Костры на снегу
День, вытеснивший жизнь
День седьмой
Собрание сочинений. Том 3.Свидание с Нефертити. Роман. Очерки. Военные рассказы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Фатализм — «должно совершиться только потому, что должно совершиться» — наверное, самое крайнее проявление религиозности, когда верующий признает свою полную зависимость от неких непостижимых сил. С такой позицией в жизни ничего другого не остается, как предаваться созерцательной бездеятельности. Зачем прилагать усилия, пытаться что-то изменить, когда все заранее предопределено свыше. Но Толстого-то меньше всего можно назвать бездеятельным, трудно даже представить себе более активную натуру. Он не мирится с существующей нравственностью, критикует, опровергает, проповедует и все делает с такой страстью и силой, что овладевает вниманием всего мира, признается некоронованным духовным царем России.
Религия является не чем иным, как «…фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». [4] Маркс К. И Энгельс Ф. Соч., т.20, стр. 328.
Попробуем применить к Толстому это известное определение Ф. Энгельса.
Ни образ мышления великого писателя, ни его художественное изображение жизни не несут в себе элементов фантастического отражения. Даже приведенные нами рассуждения о причинности, несмотря на фатальные выводы, лишены, однако, мистической окраски. Более того, если вдуматься, они куда реалистичней рассуждений, отвергающих всякую религиозность, материалистически настроенных просветителей того времени. XIX век по праву можно назвать веком торжествующего детерминизма, тогда считалось, что мир устроен достаточно просто — причина определяет следствие, усилием воли можно влиять на исходные причины, добиваться желаемых следствий, а значит, изменять ход истории. Люди с выдающейся волей — герои — делают историю. Теперь причинно-следственный комплекс нам уже не представляется столь простым. Высказывания современных ученых показались бы для мыслителя прошлого века дикой нелепицей. «Так, например, — пишет известный физик Я. Смородинский, — прежде считалось аксиомой, что один и тот же реальный предмет не может находиться в двух разных местах в одно и то же время и что одно место может быть занято только одним предметом. Этим свойством должны были обладать любые реальные объекты. В квантовой механике оба эти постулата оказались нарушенными…» [5] Вопросы философии, 1977, № 5, с. 67.
Признание Толстым чрезвычайной сложности причинности событий для нас теперь куда ближе прошловекового детерминизма, сводящего причину и следствие в жесткую схему.
Выдающемуся реалисту Толстому не свойственно фантастическое отражение внешних сил, которое характерно для религиозника, но тем не менее сам Толстой постоянно обращается к религии, оперирует ею. Уместно спросить: какой он ее себе представляет?
«Религии, — отвечает Толстой, — суть указатели того высшего, доступного в данное время и в данном обществе лучшим передовым людям, понимания жизни, к которому неизбежно и неизменно приближаются все остальные люди этого общества». Для обычного верующего такое объяснение религии не только неприемлемо, но и оскорбительно: богом как таковым тут и не пахнет — «суть указатели» понимания жизни, доступного передовым людям.
«Не могу доказать себе существование бога, — пишет в дневнике 25-летний Толстой, — не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его».
Однако «существование всего мира» и его «прекрасные порядки» понять вовсе не легко и не просто. Человеческий разум, едва ли не с момента своего зарождения и до сего дня, тщится раскрыть загадки мира. Если во время Толстого существовала некоторая иллюзия — еще чуть-чуть и мир будет понят (вспомним выступление Вильяма Томсона), — то ныне эти иллюзии рухнули. «Наше знание, — признаются ученые, — остров в бесконечном океане неизвестного, и чем больше становится остров, тем больше протяженность его границ с неизвестным». [6] Вайнскопф В. Наука и удивительное. М., 1965, стр.81.
Само расширение наших знаний плодит загадки.
Толстой, ставивший перед собой фундаментальные вопросы бытия, чаще других сталкивался с невозможностью найти решение, но его деятельная натура не могла просто примириться со своим бессилием, и ему ничего не оставалось, как прибегнуть к выходу, которым пользовались испокон веков все те, кто испытывал отчаянье перед скрытностью мира, — признать некую предопределенность свыше, недоступную человеческому разуму.
Принято считать — бог рождается от слепой веры, как часто он рождается от сомнений.
Религии, хотя и утверждали полную зависимость человека от бога, однако от участия в жизни его не устраняли, напротив, часто ход истории ставился в прямую зависимость от людского поведения. Дурное поведение людей было неприятной неожиданностью для бога, вызывало его господний гнев, толкало к наказаниям, менявшим привычный порядок, порой выражавшимся в катаклизмах и катастрофах. Специальная апокалиптическая литература предвещала эти весьма неблагоприятные исторические события: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» [7] Откровение Иоанна Богослова, гл. 9, ст. 6.
.
Трезвый XIX век все решительней и решительней устраняет бога из истории: историю делают люди!
Толстого не удовлетворяет это утверждение. Он считает, что если отдельно взятому человеку еще свойственно поступать согласно собственной воле, своим личным желаниям, то уже совместные действия многих людей, как правило, не являются результатом их общих желаний, суммированных интересов, часто направлены против них. Вторжение армий Наполеона показывается в романе «Война и мир» как явление саморазвивающееся, не подчиненное чьей-либо воле; Бородинское сражение идет вразрез всех планов и расчетов. И Толстой пытается осмыслить роль человека в истории.
«Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение».
То есть, заявляет Толстой, существует нечто подчиняющее человека, заставляющее его в конечном счете поступать независимо от себя.
«Есть две стороны жизни в каждом человеке, — продолжает он, — жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы» (курсив мой. — В. Т.). И эти законы предписываются вовсе не другими людьми, власть имущими законодателями, напротив, они, власть имущие, сами зависимы больше других.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

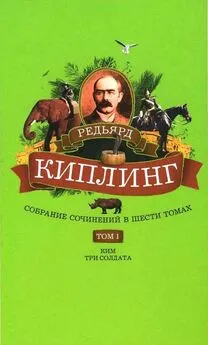

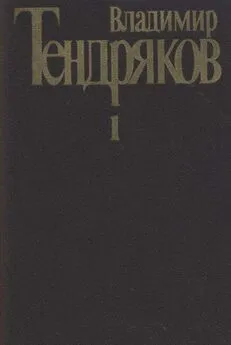
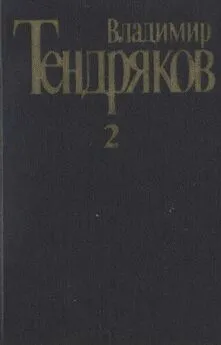
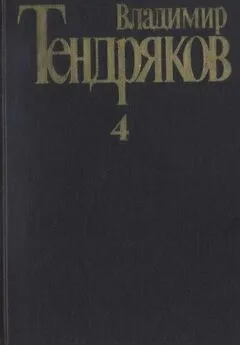
![Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Том 5. Покушение на миражи: [роман]. Повести](/books/446604/vladimir-tendryakov-sobranie-sochinenij-tom-5-poku.webp)