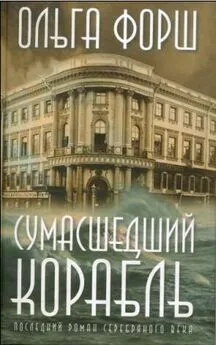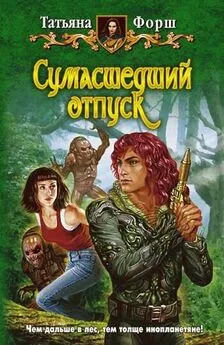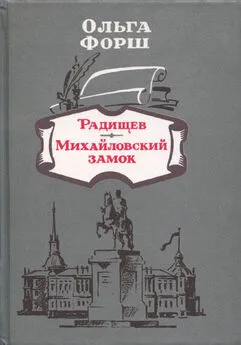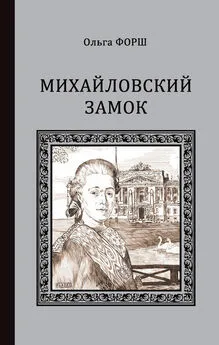Ольга Форш - Сумасшедший корабль
- Название:Сумасшедший корабль
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-074713-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Форш - Сумасшедший корабль краткое содержание
В основе романа — жизнь петроградского Дома искусств (Диска), созданного в 1919 году по инициативе Чуковского и при ближайшем участии Горького, где жили и работали писатели и художники — Александр Блок (Гаэтан), Андрей Белый (Инопланетный Гастролер), Евгений Замятин (Сохатый), Михаил Слонимский (Копильский)… Имена легко разгадываются, истории жизни почти подлинны, но главное — Форш удалось описать судьбу Художника во время Революции.
Сумасшедший корабль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последний год жизни он много шутил. Человек входил к нему, он сидел на диване, на плече неизменный кот. С маленьким клокочущим заиканьем он требовал, чтобы вошедший непременно выпил чай и съел все, что стояло на столе, даже если он был сыт. Ему хотелось прежде всего человека накормить физически, потом он непременно расспрашивал про личные мелкие обстоятельства, не по кодексу любезности, а принимая человека в себя, отечески желая помочь ему, оберечь. И весь он был насторожен, как-то взъерошен, чтобы помочь.
От болезни проступали резче его восточные черты, не из Ветхого завета, а скорей из «Тысячи и одной ночи»: линия союзных бровей на белом прекрасном лбу дополнялась мысленно тюрбаном. Когда он топтался у входа в свою квартиру, увлеченный разговором, и долго, не входя сам, держал гостя у порога, темная ночь со звездами вдруг казалась не нашей, а очень южной, и замечательный разговор его о славянофилах с своеобразным захлебываньем и горготаньем делал его не писателем русским, а каким-то халдейским магом, заблудившимся в наших снегах.
К концу жизни от него исходила особая радость, и было чувство, что он непреложно что-то получил и торопится раздать. В те дни невольного угасания интереса друг к другу, когда все силы направлены были, как у перегруженных лошадей, чтобы вывезти как-нибудь воз, его отеческая забота запоминалась.
Ничто не походило на то, что он у конца своей жизни. Только раз как-то, говоря о больших начатых работах, он просто, как о постороннем, со стороны, сказал:
— Я их уже не окончу.
Как ни помещай себя человек в жизнь общественную, в смертный час он один. И умрет один. И как ни завалены дни делами, порой не забить им мыслишку: «Ну, а как мне умирать? Что же пожелать себе самому в смертный час? Как в старину — тишины, созерцания, внутренней самоочистки, сведения итогов? Последней законной гордости — себе укрыться у себя же?» Или, не заботясь уже ни о каких итогах и спецподготовках к смертному часу (а жизнь-то на чем прошла?), человек вдруг в какую-то особую минуту поймет, что самое облегчающее — это все отдать людям, тем, кто еще остается, притом отдать невзирая на лица.
Эту готовность отцовства люди узнают безошибочно и тотчас влекутся.
К халдею шли охотно и раньше, потому что он был богат талантами, эрудицией, культурой, и общение с ним обогащало. Но сейчас шли, когда он и не звал, эрудиции от него не вымогали, говорили сами свое, да так, как говорить совершенно отвыкли или даже не знали, что можно так говорить. И он сейчас умел слушать особенно. Давал не интеллекту, не жажде познания, а, казалось, думал: «Вот подкормить тебя всячески, а уж насколько умен, настолько сам себе и выберешь».
Он хорошо смеялся, с захлебкой, горгоча детским горлом и остря взамен назидательных уроков, на которые так падки люди, влагая просящему камень вместо хлеба.
И был такой случай. Подбежал он на бульваре к человеку, которого зорко оглянул со спины. К Москве-реке с намерением шел человек. Суетливо перебрал ногами, затопал вслед, догнал, сердито ворча, постучал кулаком в спину, его обеспокоившую.
— Ну разве можно так?.. Ну зачем же отчаяние? Нет денег… ну, дома плохо… знаю, знаю. Но только деньги есть.
Сунул деньги, отбежал и еще долго ворчал:
— По спине видно. Как это можно?
Ему было, конечно, все равно, как его похоронят, но приехавшие родные позвали кантора.
Когда над ним, мертвым, лежащим в гробу, кантор, найдя какие-то нечеловечески точные, убеждающие и догоняющие сознание звуки, возгласил:
— Proffessore Michoelos!.. — казалось, он слышит, но ему уже окончательно не хочется говорить.
Когда же он лежал, усыпанный цветами уже в общественном месте, к нему подходили женщины и, крестясь, клали земные поклоны — тогда еще так прощались с ушедшим; несмотря на панихиду гражданскую, внезапно Сохатого за локоть тронул друг покойного — маленького роста человек, с совершенно детским, очень умным лицом. Он знал все книги мира, не читал уже их, а как-то, взяв в руки, только обнюхивал и тотчас вспоминал весь текст. Он имел собственную философию, был удивительный оратор-импровизатор, и, бескорыстно пребывая в атмосфере мысли, вместе с тем никогда ничего не написал, оплодотворив статьи многих. Этот человек был в очках, с которых, как крупный ливень по окну, лились слезы. Он не замечал и, непрерывно моргая умными глазами, ничего не видя и забыв, что очки можно снять и протереть, тихо пояснил:
— Я ведь не знал ничего. Я сейчас прочел газету и прямо сюда. Накануне я играл с ним в шахматы.
И еще раз, совсем приблизив свое очкастое лицо к уху Сохатого, он сказал:
— Накануне…
Так сказал, что стало ясно, что ни минуты нельзя терять из своей жизни на вещи ненужные, если накануне можно играть в шахматы, а назавтра уж умереть.
На гражданской панихиде кто-то видный сказал пространную речь о машине, где есть шестерня, чьи зубцы — искусство, наука и общественная деятельность. И вот один из представителей, один из зубцов шестерни — такой-то — лежит пред нами мертвый. Но, надо надеяться, он будет скоро заменен новым зубцом и шестерня пойдет как ни в чем не бывало.
Тогда женщина, не собиравшаяся говорить и не оратор, попросила слова. Она сказала:
— Может быть, зубья в шестерне, о которой вы говорили, очень легко заменить новыми, но человек не совсем то же, что часть машины, и в особенности — такой человек, как был покойный. И заменить его не так уж просто.
— Слушай, Жуканец, — сказал Сохатый, — а мне подумалось, что оратор с зубцами сродни той девице, что, прошагнув груды книг, не утруждая себя мышлением, разрешилась начальственно: «Выдайте пекарям всю букву “г”».
— Гы… гы… романтика, — скажет читатель по адресу Сохатого.
Возможно. Но эта романтика дает очень реальные результаты, уже не говоря о том, что является одной из высших форм человеческого общения, имея много видов на всех поприщах общественной жизни и быта.
Тут справедливо нам вспомнить одного редактора, без которого образ крупнейших поэтов как бы не закончен. Ведь редактор этот — вроде пушкинского «дядьки Черномора», пестуна тридцати богатырей.
Он сопутствует Скифам, он способствовал расцвести во всю силу поэтам земель Рязанской и Олонецкой.
К сожалению, у нас довольно обычно, что редактор величина случайная. И кто только им не был? Он принимает или отвергает рукописи, из принятых лепит свой ежемесячник или еженедельник.
Но если редактор совершенно на своем месте, если он обладает сложным даром организатора, то он уже не лепит журнал, а создает живой организм.
Как у Чистякова ученики никогда не писали в однообразной манере репинцев и маковцев, так в редакции Черномора не водилось того прокрустова ложа, которое таили редакции былых толстых журналов. Он не оскоплял дарованья и не заставлял его искусственно раздуваться. Он создавал условия естественной выгонки творческих сил. У него была своя хитрая система для каждого. И вот, когда он уже стоящему на ногах беллетристу давал невзначай писать неинтересную для того рецензию в журнал, тот не ершился, а брал по доверию. Каждый знал по предыдущему опыту, что подталкивания, наводка, вся хитрая провокация Черномора имеют своей целью одно — раскрытие всех сил и их воспитание. Словом, писатель верил редактору, зная, что он бережет его больше его самого. Редактор же писателя выращивал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: