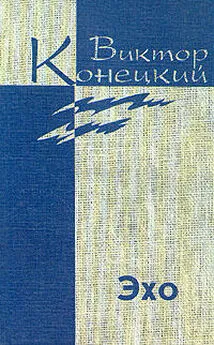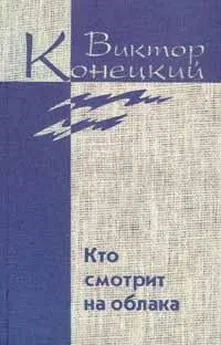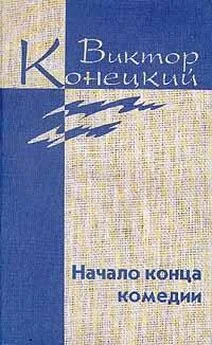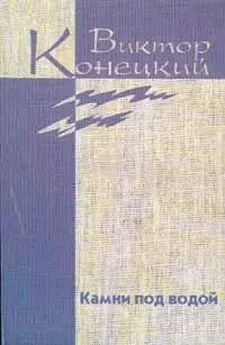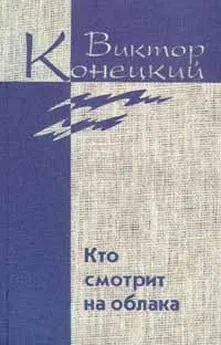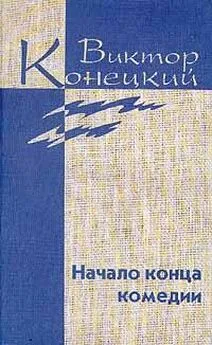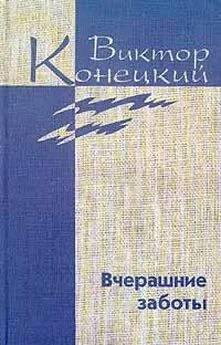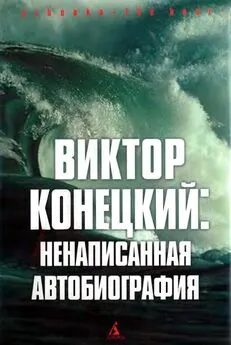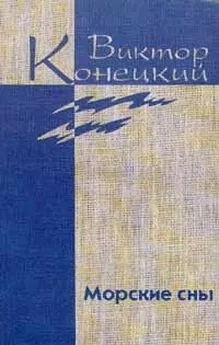Виктор Конецкий - Том 7. Эхо
- Название:Том 7. Эхо
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Международный фонд 300 лет Кронштадту - возрождение святынь
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94220-009-2, 5-94220-002-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Конецкий - Том 7. Эхо краткое содержание
От воспитанника до мичмана, «Капитан, улыбнитесь», От лейтенанта до старшего лейтенанта, Наши университеты, Вопят огнями тишину, Непутевая тетка непутевого племянника, Еще про объединение, Счастливая старость, Чуть-чуть о Вере Федоровне Пановой, «НЕ МИР ТЕСЕН, А СЛОЙ ТОНОК?» (Из писем Л. Л. Кербера), Судьба семьи, О Викторе Платоновиче Некрасове, Из последних писем Л. Л. Кербера, ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА (В. П. Некрасов), Смерть в чужой квартире, Письма, полученные после публикации «Парижа без праздника», «У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ СПАСИТЕЛЬ» (О «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина), Из переписки В. Конецкого с А. Адамовичем.
КТО Ж У ВАС СМОТРИТ НА ОБЛАКА? (А. И. Солженицын)
Капитан Георгий Кононович, Всего две встречи, Капитан Георгий Яффе, Он поэмы этой капитан (С. А. Колбасьев), Капитан Юрий Клименченко, Россия океанская.
От Верочки Адуевой, «Я буду в море лунной полосой…», Перестройка, или Пожар в бардаке во время наводнения, Жизнь поэта — сплошной подвиг.
ОПЯТЬ НАЗВАНИЕ НЕ ПРИДУМЫВАЕТСЯ (Ю. П. Казаков).
Начну с конца, с последнего письма, Нам с Казаковым под тридцать, Перевалило за тридцать, Как литературно ссорятся литераторы, Прошло одиннадцать лет, Из дневниковых записей на теплоходе «Северолес», Эпилог.
ОГУРЕЦ НАВЫРЕЗ (А. Т. Аверченко)
ЗДЕСЬ ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ НАЗВАНИЙ (В. Б. Шкловский)
Из писем О. Б. Эйхенбаум и Е. Даль
БАРЫШНЯ И РАЗГИЛЬДЯЙ (Б. Ахмадулина и Г. Халатов)
Встречи разных лет
Разгильдяй Грант
ПРИЯТНО ВСПОМНИТЬ (Р. Орлова, Л. Копелев, Д. Стейнбек, Э. Колдуэлл)
На полчаса без хвоста (У. Сароян)
Архисчастливый писатель (А. Хейли)
ПРИШЛА ПОРА ТАКИХ ЗАМЕТОК
ДВЕ ОСЕНИ
Том 7. Эхо - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Бездельники и авантюристы — они читают „Трех мушкетеров“, „Мартина Идена“ и даже сравнивают себя с ними… Книга Колбасьева — результат исключительного непонимания смысла гражданской войны и движущих сил революции» (журнал «Залп», 1931. № 2).
После такой критики, на мой взгляд, самое милое дело — пустить себе пулю в лоб. Особенно если в критическом кильватере выстраиваются однокашник по Морскому корпусу Леонид Соболев и отчаянный матрос Всеволод Вишневский.
Защищая Колбасьева, Борис Лавренев писал: «Во время Ледяного похода добровольцев, в бою под Лежанкой, группа штаба Деникина была обстреляна необычайно метким и убийственным шрапнельным огнем. Спустя некоторое время к добровольцам прибежал насильно мобилизованный кадровый капитан. Выяснилось, что красной батареей под Лежанкой командовал он. Когда удивленный Деникин задал вопрос ему, как же он, белый, так садил по своим, капитан, сконфузясь, буркнул:
— Профессиональная привычка-с, ваше превосходительство.
Этот рассказ дает лишний штрих убедительности мотивировок Колбасьева и вместе с тем подчеркивает ту полную обывательщину и политическую безграмотность, которая характеризовала основную массу кондотьерского офицерства…»
Борис Лавренев был старше Колбасьева на восемь лет и отлично знал материал, на котором работал автор книги «Поворот все вдруг». Знаменитый рассказ «Сорок первый» о судьбе белого офицера вышел в 1926 году.
В жесткой полемике, которая разгорелась вокруг Колбасьева, голос Бориса Лавренева был самым объективным. В предисловии ко второму изданию книги «Поворот все вдруг» он дает анализ дореволюционного флотского офицерства:
«Мечтой великодержавной России, из последних силенок строившей дредноуты за счет благосостояния и культуры страны, было подравняться морскими силами с владычицей морей — Великобританией. Мечтой офицерского состава флота было — походить на шикарных командоров и лейтенантов флота его величества Георга Пятого…
Это поверхностное „англичанство“ в соединении с русским высокомерием, „авосем“ и примитивной дикостью азиатов создало в русском флоте офицерскую породу, отличительной чертой которой была вопиющая политическая неграмотность…
Но совершенно напрасно некоторые товарищи из „упрощенцев“ пытаются сейчас представить все офицерство как однородную массу сознательных классовых защитников дворянских привилегий и монархической идеи.
Этого не было. Офицерство делилось в основном на три группы, не говоря о мелких подразделениях.
Стоявшая во главе и задававшая тон незначительная группка аристократов, обладателей шестисотлетнего дворянства, „рюриковичей“, была, пожалуй, наиболее сплоченной и действительно классово воспитанной в сознании своего непререкаемого превосходства и первородства.
Вторая категория, тоже незначительная по количественному составу, представляла собой лучшую часть флота. В нее входили те единицы, которые обладали умом и сознанием, которые не мирились с существующим положением и были оппозиционерами и протестантами, причем это протестантство имело широчайший диапазон — от пассивного розового либерализма до подлинно революционных убеждений и готовности заплатить за них жизнью. Из этой группы вышли казненные царским режимом Суханов, Штромберг, Шмидт и многие моряки-революционеры, кончившие ссылкой и каторгой.
И наконец, основной контингент представляла многотысячная масса, безликое множество „худородных“ персонажей, потомков людей, выслуживших дворянство в девятнадцатом столетии, — дворян такого сорта, о которых едко говорила кавказская пословица: „Два барана имеет — князь“. Не обладавшие ни имущественным цензом, ни громкими фамилиями, ни стойкими убеждениями, лишенные возможности самостоятельно пробивать себе дорогу в мире капиталистической конкуренции, они с детства попадали в замкнутую атмосферу Морского корпуса, задачей которого было выработать из них справных служак, „лихих драчунов“…
…Колбасьев отразил последних могикан этой вымершей касты художественно правдиво и ярко, но не дал правильной политической оценки их роли. Делать из них самостоятельных героев нельзя. Они сделали свое дело во время Гражданской войны, под руководством большевиков, и навсегда отошли в историю. Борис Лавренев. 6.03.1931».
С таким резюме Колбасьев соглашался, но и тут не без некоторого сопротивления: «Все же прошу не ставить меня на одну доску с Александром Сейбертом, я старше его на десять советских лет!»
А потом, в рассказе «Река», его герой Бахметьев, за которым легко угадывается автор, скажет: «Впрочем, я вообще не люблю слова „лихость“. Я предпочитаю решимость в выполнении опасного, но необходимого маневра и спокойный отказ от ненужного риска». Или: «Никогда не нужно расстраиваться из-за того, что все равно неисправимо». Это говорит человек, оглядываясь на двадцать первый год из тридцать шестого. «Знаете что, все эти бывшие раньше могли неплохо командовать, а теперь никак не могут. И вот почему: они боятся отдавать приказания. Им все кажется, что их сейчас за борт бросать будут. Их ушибло еще в семнадцатом году, и они до сих пор не могут прийти в себя…» Думаю, что и сегодня найдутся такие, которые боятся принимать ответственные решения, которые «ушиблены» и все еще «не могут прийти в себя». Колбасьев же уже в тридцатые годы чувствовал себя хозяином страны и категорически отказывался бояться: «Люди творили революцию, а заодно создавали необычайную сюжетную прозу, туго набитую действием и романтикой. Боюсь, что ее занимательности они не ощущали».
Да, настоящие революционеры — всегда художники, хотя они и ломают массу дров в музеях и храмах.
Колбасьев погиб одновременно с Тухачевским и Бабелем, Блюхером и Кольцовым.
Сохранились воспоминания человека, который встретился с ним в обстоятельствах для обоих ужасных: в камере «Крестов». Колбасьев начал подозревать собеседника в провокаторстве и, как ныне модно говорить, тестировал его, задав вопрос:
— Кого больше любите — Пушкина или Лермонтова?
Собеседник смешался. Ведь каждый русский знает, что выше Александрийского столпа вознес непокорную голову только Пушкин. И все-таки каждый в разные этапы своей жизни имеет полное право колебаться между двумя этими великими именами.
— Знаете, Пушкин — это более чем гениально, но, не знаю почему, больше всех люблю Лермонтова, — таков был ответ.
— И вам не стыдно признаться?
— Иногда неловко, но что поделаешь?
— Ну так можете успокоиться, — сказал Колбасьев, успокаиваясь сам, ибо лихорадка подозрительности отпустила его. — И я в этом грешен: необыкновенно люблю Лермонтова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: