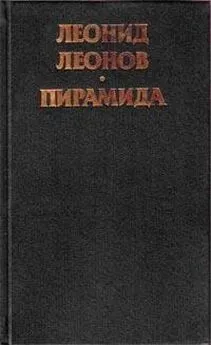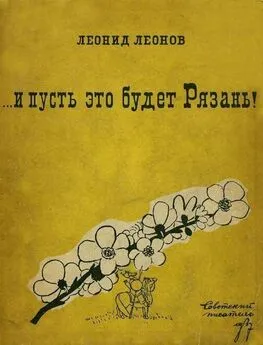Леонид Леонов - Барсуки
- Название:Барсуки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Леонов - Барсуки краткое содержание
«Барсуки» – первый большой роман Леонова, знаменовавший значительный рост художественного дарования автора и выдвинувший его уже тогда, в 1925 году, в первые ряды советских писателей.
Роман «Барсуки» – крупное эпическое полотно, в котором изображено предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне. Глубокое знание старорусского бытового уклада дало возможность автору создать яркие образы деревенских искателей правды, показать характеры городских торговцев и ремесленников.
Барсуки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Папаша... я и позабыл вас этово, ну вот... с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!
– Нашел время, Емеля! – тоскующе усмехается отец и легонько толкает сына в плечо. В голосе Быхаловском – и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра. Петр уходит спать.
Еще через час – уже сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.
Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто – поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разных стороны...
VII. Девушка в гераневом окне.
Каждому цвету свой черед. Пришла пора и Сенина. К тому времени, как речь, Семеном стал звать Сеню Быхалов. С Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова – кольчиками: никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье. Иного взращивало в холе и с любовью: и цвел снаружи буйный цветок, а внизу черствели и удлинялись злые чертополошьи корни. У Сени, покуда, глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него в обрез налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел. Скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая Зарядская скудость.
За все то время пяти лет житья в бакалейных молодцах, не уставал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года, почти все книжки Катушинские перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Все обтертые, скользкие ступеньки Катушинской лестницы имели свое обличье и место в Сениной памяти. Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.
Так случилось и в наше воскресенье, после запора лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, сильным снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу, сорном от обрезков сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пятне явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уже не выносили света слепнущие его глаза.
– Что-й-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли...
– Книжку вот принес, – говорит Сеня. Улыбка Сенина широка и свободна.
– Всю прочел? – жмурится Катушин.
– Всю-то, всю. Сочиненье хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.
Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.
– Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь...
– ...спасет, – докончил за Катушина Сеня. – Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь... я чита-ал... – протянул Сеня. – Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман цельного мира. Только, по-моему, все это враки, – со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.
– Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду! – хитровато посмеивается Катушин. – И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге...
Уже через три минуты Катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминанья. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.
– ...очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить, – сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. – Меня тогда дьячок и приютил один из соседнего села. Я к нему и бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал. «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил... Вот как кончилось обученье, он и говорит мне на последях, дьячок мой: ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плесть, хочешь – обучу... А дальше уж ступай, как сам знаешь!
Сеня смотрит в окно. Ветерок прохладный задувает к нему в лицо и на колени, и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глубже – в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц, в гнилые рты. Сеня любит глядеть из Катушинского окна: видно много.
Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Ныне над крышами их свирепствовало предвечернее солнце, парило воздух, мягчило асфальт, как воск, дожелта накаляло тонкую Зарядскую пыль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семячки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину – в сыром подвале чокаться с бутылкой и спрашивать ее о целях Дудинской жизни. Быхалову, вымытому до красноты и хмурому, сидеть над Киевским патериком, услаждая скупые слезы умиленья сладким чаем. Карасьеву – все гулять по переулочкам, перемигиваться со встречными девушками, преть в ватном пиджаке: высоко ставя земное свое благолепие, только ватное уважает Карасьев.
На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядьи, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли и, когда обмелеет, в чьих жизнях затеряется ее исток? – Внезапно услышал Сеня как бы шуршанье бумаги. Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.
– Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый?.. – кинулся к нему Сеня.
– Ничего... ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою... Дьячка своего вот вспомнил. – Катушин уже улыбался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на страницу книги, обрызганную слезами. – Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну, вот и я так же. – Выходило, что не Сеня утешал старика, а, скорее, старик примирял молодого с необходимостью смерти. Не тревожься, паренек, будь крепонек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут... крови я не проливал, родины я не спасал. А глаза-то – эвоны – мы, говорят, покоя хотим... Берешь иглу в руку, а и не видишь иглы-то... и нитки не вижу! так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью... Только вот рука не омманывает...
Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами маленький желтый ноготок мизинца, – как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку только однажды в жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: