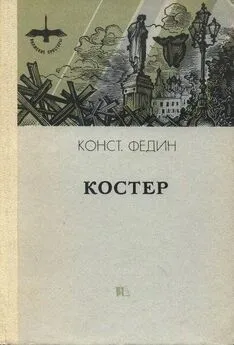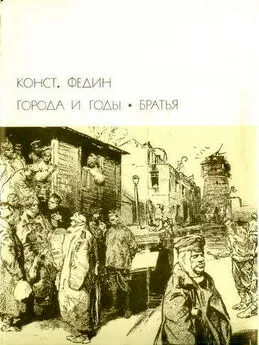Константин Федин - Города и годы
- Название:Города и годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Федин - Города и годы краткое содержание
Константин Федин. Города и годы. Роман
Города и годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В сумерки дядя Кисель вернулся в лагерь, качаясь, точно от ветра. Всю ночь он ерзал на соломе, маялся, как в бреду. Поутру, как только солдаты завозились на нарах, он вышел на середину барака и произнес растяжно:
— Братцы, а братцы! Послушайте меня, братцы. Хворый я человек, а кругом каждый про себя. Совета вашего прошу, куды мне теперь, братцы?
Ему никто не ответил.
Он медленно согнулся, поставил на пол одно колено, за ним другое.
— Христа ради, прошу, братцы, куды мне податься, дайте совет.
Лепендин кашлянул, оглядел нары и сказал:
— Я, братец, смотрел за тобой, пока ехали. Жить тебе осталось недолго, все равно где помирать. А по железке ты место занимаешь, лежишь. В это время которому народу домой надо — может из-за тебя в поезд не попасть...
Не поднимаясь с колен, дядя Кисель спросил:
— Умереть на родной земле, чай, легче, братцы? Умереть-то, а?
Лепендин опять оглядел нары. Никто не отзывался, точно все еще спали.
— Наш тебе совет такой, — сказал Лепендин. — Оставайся тут, потому хорошей смерти человеку нынче нигде нету.
Он поправил под собою лукошко, затянул пояс, отвернулся.
Дядя Кисель постоял еще на коленях, покачиваясь и закрыв глаза. Потом встал, подошел к своей наре, взял из подголовья полушубок, свер-[315]нул его и начал старательно увязывать веревкой. Кончив это дело, он задумался.
С нар поглядывали за ним пристально, как за чужим. Он стоял неподвижно, наклонив голову, борода его упиралась в грудь пышным валом, руки растопырились, точно он выронил какую-то работу.
На Лепендина вдруг напал кашель.
Тогда дядя Кисель нахлобучил шапку, взвалил на спину полушубок, взял мешочек и качко, по-мужичьи расставляя ноги, пошел к выходу.
Минуты две после того, как закрылась за ним дверь, было тихо. Потом, один за другим, пленные послезали с нар и гуськом, не глядя друг на друга, покинули барак, миновали лагерные ворота, вышли в поле.
Дядя Кисель колыхался над грудами узлов, скарба, над людьми, затянутыми реденьким костровым дымком. Желтая овчина торчала горбом за его спиной, и он подогнулся под ней, как под непосильной кладью.
Путь он держал назад, в плен.
Скуластый малый шмыгнул откуда-то в кучку солдат, провожавших дядю Киселя глазами, и расколол молчание прочными, как клин, словами:
— Вот какое дело. Я говорю, что кто хочет в одиночку быть, сам по себе, — такой человек в наше время не жилец. Народ теперь зажил миром, по согласию, на равном праве. Этаких людей нам не надо.
И малый махнул рукою туда, где скрылся дядя Кисель.
Лепендин отозвался подголоском:
— Я ему так и объявил: не надо, мол, нам таких, ступай с богом!
Дорога, дорога! [316]
Через трупные ямы, залитые известью, через обрубки тел, ползущие, точно земноводные твари, сквозь вопли, стенанья и стоны; по земле, засеянной смертью, — дорога к жизни.
В вагоне-госпитале, прицепленном к хвосту состава, в худосочные обрезки ног и рук игольно-тонкими шприцами впрыскивали дигален и морфий и в набухшие узлами вены вливали соляные растворы. Пульсы, отбившие положенные удары, наново наполнялись тягучей кровью, губы еще раз начинали шевелиться и опять испускали шепот:
— Сестри-ца, при-еха-ли?..
— Сейчас приедем.
— В ка-кой мы... губер-нии?..
— В Смоленской.
— До Тан-бовской далеча?
— Сейчас, сейчас.
Людям, заполнявшим сверху донизу передние вагоны, не впрыскивали наркоза. Но они качались, как пьяные, словно вдохнув веселящего газу, висли на окнах и навстречу ветру, пахнувшему житом, гикали несвязные песни. Внезапно проснулось непробудное добро, и друг перед другом люди распахнулись весенними окнами — пособляли увязывать мешки, делились бураками, уступали лавки недужным и хилым, — со смехом и неуклюжей простотой.
Поезд крался переплетом рельсов, по-змеиному выгибая свои зеленые суставы и заползая в щели между разбитых вагонов. Все медленней становился его ход, все больше нагромождалось по сторонам омертвелых поездов, и вот он стал.
Скуластый парень навалился плечом на Андрея и внятно прошептал:
— Смотри-ка.
В пустом вагоне, стоявшем на соседнем пути, [317] германский солдат, оглядевшись по сторонам, быстро вынул из кармана складной нож, отрезал оконный ремень, скатал его роликом, спрятал вместе с ножом в карман и юркнул из вагона.
— Тэ-эк-с, — протянул скуластый, — на-чи-нается!
Он весь задергался от рассыпчатого неслышного смеха, и его глаза оплелись сеткой тонких, как паутина, морщинок. Но вдруг он выпрямился.
Где-то вдалеке треснул разбитым стеклом короткий выстрел.
Скуластый повернулся к солдатам, снял картуз и громко отчеканил:
— Поздравляю, дорогие товарищи, с благополучным приездом на родину.
Точно от этих складных слов рвануло поезд, и все в вагоне весело посыпалось назад.
Андрей ухватился за локоть скуластого и, падая, взглянул в его лицо. Оно светилось ребячьей радостью, и на нем не было ни тени морщин.
— Вставай, вставай, товарищ, — сказал он, подтягивая Андрея за руки.
И тогда полыхнуло на Андрея каким-то зноем, и он втянул его в себя, как утопающий втягивает воздух, и тут же выдохнул с диким воплем.
И весь вагон подхватил стократно этот вопль, и в десятках вагонов, из сотен грудей прозвенел он катящимся железом, вырвался в окна и двери, смял, сломал, задушил грохот поезда и через груды стали и камня понесся в поля, на просторы.
И в вагоне-госпитале, в хвосте состава, возвращенный к жизни капсулой дигалена шепотом спросил:
— До Тан-бов-ской, сестрица, далеча?
— Сейчас, сейчас.
Отсюда было рукой подать до Тамбовской, [318] близко до Ярославской и недалеко до Омской. Здесь все было досягаемо, просто, легко. Здесь была родина.
Солдаты принюхивались к неуловимым движениям ветерка и, точно верхним чутьем, угадывали родные запахи садов, полей и оврагов.
Постепенно, час за часом, редел вокзал.
Люди подкарауливали случайные поезда, забирались в вагоны, под лавки, на мешки, пристраивались на подножках и сцепах и бежали, бежали в просторы, в поля, в Россию.
И когда Федор Лепендин услышал, откуда тянет ручьевскими садами — боровинкой, царским шипом, анисом, и понял, что теперь сам за себя ответчик, он затянул потуже ремни лукошка и на прочных своих дубовых руках запрыгал к вагону, который брали приступом солдаты.
— Пособите, братцы-товарищи, калеке, — заголосил он, подшибая плечами коленки солдат и протискиваясь к вагону. — Пропустите инвалида, будьте милостивы... безногого, несчастного, братцы-товарищи!
Его кто-то приподнял на ступеньки, и он повалился на площадку, как мешок зерна. Через него стали переступать жесткие ноги.
Андрей смотрел на пленных, метавшихся по путям и платформе. Он старался поймать какой-нибудь взгляд. Но глаза шныряли по сторонам, как люди — по полотну дороги, — придавленные бровями, сокрытые, непонятные. Весенние окна, распахнувшиеся навстречу друг другу при первом вскрике радости, внезапно захлопнулись ставнями на кованых болтах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: